Посвящается В.А. Сахновскому
Давно, на каком-то семинаре (естественно — не «на каком-то», а на том, где мы говорили о ней), наш педагог В.А. Сахновский рассказал, что как-то, в конце 60-х, они с И.П. Владимировым поехали в Ригу, чтобы пригласить в театр им. Ленсовета нового актера — Ефима Каменецкого. Что, якобы, сидели в гостях у Каменецкого, а его жена, тоже актриса, разливала чай, слушала. За все время она, якобы, не произнесла ни слова. А в конце вечера Владимиров пригласил ее в театр. Так ведущей молодой актрисой театра Ленсовета стала Галина Никулина.
Где она? Что она?
Теперь вряд ли «навскидку» назовешь актрису, органично играющую нравственный императив, тихую стойкость, неуступчивую чистоту… Теперь императив подточен усталостью, стойкость — неврастеничностью и в чести пухлые губы и мягкие руки сегодняшней женственности. Как, в общем-то, прекрасно! А тогда (Боже, уже — тогда) губы героинь Ларисы Малеванной, Эры Зиганшиной, Галины Никулиной были сжаты, а ладошки жестки от рукопожатий жизни. В глазах отражалась не действительность и даже не идеал, а небо, этот идеал таящее. «Чтоб были наши помыслы чисты, а остальное все приложится…»
Никулина всегда появлялась на сцене сосредоточенной и напряженно-замкнутой. Соня Мармеладова, Алка в спектакле «Вот какой факт получается…», Пинки из комедии «Двери хлопают», Гайле, героиня пьесы Кановичюса «Огонь за пазухой», Малыш из Астид Линдгрен, Санчика в «Дульсинее Тобосской», Мария Стюарт в спектакле «Люди и страсти», позже — Варя из «Вишневого сада»…
Малыш Никулиной не был шаловливым лохматым ребенком, каким упоительно играла его Фрейндлих. Малыш Фрейндлих хохотал. Малыш Никулиной чуть улыбался. Он был скорее Маленьким принцем, почти подростком, отстаивавшим право на существование своего собственного мира, своей собаки, своего Карлсона. В этот мир никто не должен вторгаться, и когда взрослая рассудительность пыталась разрушить его фантазию, его планету, не веря в нее, Малыш напрягался, сжимался и выпрямлялся в тоненькую струну.
Легкой, худенькой, чуть угловатой, по-мальчишески резкой, стремительной, но одновременно скупой в движениях появлялась на сцене ее семнадцатилетняя Гайле. Встав лицом к залу, на фоне голубого экрана, она широко взмахивала руками под пелеринкой, как крыльями. А в последней сцене стремительно приближалась к этому же экрану и замирала, безжизненно опустив руки, как будто натолкнувшись на стенку. Между этими мгновениями Никулина играла историю любви и смерти.
Спустя годы трудно оценить, что это было — тот или иной спектакль. Я доверяю двум вещам: во-первых, тому, что записал, придя со спектакля, и что наивное, невнятное, но современное спектаклю запылилось, забытое, на антресолях. И, во-вторых, тому, что помнишь не фактической, а эмоциональной памятью, что помимо твоей воли отпечаталось в подкорке, а значит, было впечатлением истинным.
Помню — она играла молчаливую малоулыбчивую девушку. Слова давались Гайле нелегко и чаще всего были лишь формальным выражениям того, что происходило у нее внутри. Никулина вообще умела молчать не только в жизни (если верить Сахновскому), но и на сцене. Глаза, жест выдавали в ее героинях жизнь, параллельную тексту, перпендикулярную тексту. Если Гайле-Никулина улыбалась, то только внутренней полуулыбкой и лишь тому, что происходит в ней, а не во внешнем мире.
«Женщина — это нервы человечества, а мужчина — его мускулы», — писал Мюссе. Натянутые нервы героинь Никулиной были спрятаны под внешней сдержанностью, нервность не была неврастеничностью, она никогда не оборачивалась истерикой, внутренний накал проявлялся лишь в лихорадочном блеске глаз, нервных пальцах, напряженно-прямой тоненькой фигурке. Огонь был действительно спрятан за пазуху и горел там, приглушенный ритмической ясностью и проработанностью чувств. Играя Гайле, она либо вся уходила во взгляд, либо вся — в мысли, не видя и не слыша ничего. Иногда казалось, она слушает так, как слушают слепые. «Я не могу, не могу так больше», — говорила Гайле любимому ею подлецу Линасу. Никулина не кричала, не плакала, а произносила это так, как будто у Гайле — еле сдерживаемый озноб. Долго сидела, подперев голову, не выражая никаких чувств. За оскорбление платила несильной и неумелой пощечиной. Молча, погруженная в себя, скупым движением брала из рук обидчика, Альдаса, стакан и, стоя очень прямо, выпивала его. Чуть качнувшись от внутреннего ожога, очень по-деловому, привычным движением надевала шлем и быстро шла в глубь сцены — умереть.
Никулина была актрисой закрытых эмоций. В этом смысле их дуэт с тоже «закрытым» Л. Дьячковым - Раскольниковым был трудной партнерской встречей, а открытый темпарамент А. Фрейндлих-Катерины Ивановны рождал уникальные сцены между ней и Соней-Никулиной.
Момент, когда Соню обвиняют в краже, был переломным в характере Катерины Ивановны. Существовавшая до этого в постоянном оцепенении, она оживала, как от толчка. Застывшая на месте, в любой момент готовая упасть без чувств, Соня-Никулина оказывалась вовлеченной в горячечный, истошный монолог Катерины Ивановны — Фрейндлих. Выплеснувшаяся наружу сила ненависти Катерины Ивановны будто втягивала, вбирала в себя Сонино отчаяние. Две худые фигуры в почти одинаковых серых платьях, обнявшись, метались по сцене. Еле стоящую на ногах, сквозь слезы повторяющую только одно: «Я не брала!» — Соню, Катерина Ивановна таскала за собой по сцене как реалию чудовищности этого мира. Она обнимала уткнувшуюся ей в плечо Соню, все крепче прижимая ее к себе, а Соня, чувствуя внутренние рыдания Катерины Ивановны, нервно сжимала пальцами складки ее платья. Они как будто искали поддержки одна у другой, нервное напряжение становились их общим, единым. Возникал тот редкий театральный момент, когда невозможно было сказать, что принадлежит тут одной актрисе, а что другой.
Говорят, смелость — свойство природное, а мужество — духовное. Стойкость героинь 70-х шла не от физической силы, душевного здоровья или убежденности в избранном пути (это — «60-е», это — «у Малеванной»). Смелость 60-х сменилась в 70-е необходимостью стойкости. Героини Г. Никулиной, как и более старшие героини Э. Зиганшиной (чем-то они теперь кажутся похожи…), сопротивлялись жизни, ведомые духовным императивом и только им. Они жили так, как жили, не потому, что сознательно выбрали этот путь. Сопротивление «предлагаемым обстоятельствам» жизни не было смелостью, оно было неосознаваемой необходимостью — мужеством.
Соню Никулина тоже играла сильной. А силу ей давала вера. Притчу о воскресении Лазаря Соня - Никулина читала наизусть, захлебываясь, отчаянно и безоговорочно отдаваясь упоению веры. Раскольников и задевал, тревожил самое сокровенное — веру, дающую ей силы жить. «Нет, это не так…» — уверенно, быстро и чуть раздраженно возражала она Раскольникову. — «Молчите, молчите!» Видя слабость, экзальтированность Раскольникова-Дьячкова, лишенного даже остатков «наполеонизма», эта Соня и решала стать ему поддержкой. Она была счастлива сознанием своей веры, ей нужно было только одно — чтобы Раскольников доверился ей полностью, доверился ее вере. Узнав об убийстве, Соня-Никулина не плакала и не заламывала руки, а сама страдая чужой мукой, успокаивая, как ребенка бьющегося в истерике Раскольникова, уговаривала его покаяться. Но за ровным звенящим голосом нет-нет да и слышалась робкая радость: кончилось одиночество. «Как пойдешь на страдание, придешь ко мне…» Соня произносила это радостно, окрыленно. Не только ее вера выдержала испытание, но и она сама, Соня, обрела близкого человека.
Соню спасала вера. У советской литовской девочки Гайле не было ни Бога, ни ксендза, ни просто близкого человека, который снял бы с нее тяжесть. Не грех, а именно давящее ощущение конца жизни и любви. «Ты только прилетай», — говорил Малыш и отдавал Карлсону плюшки и шарф, и стойко переносил все попреки взрослых, наказания и обиды. Он хотел стать Карлсону «родной матерью» и разбивал свою копилку, чтобы купить сказочному симулянту конфет и печенья. Он брал на себя все самое неприятное и тяжелое…
«Ты только люби меня», — как бы говорила Гайле, поступая точно так же. Но Линас — не Карлсон. "Конец. Всему конец«,— горестно произносила Гайле. Это звучало как стон.
Со временем, с возрастом аскетизм молодых героинь Никулиной стал жесткостью женщин среднего возраста. Слово «женственность» было как будто заключено в скобки. Грация становилась более жилистой, жесткой, безнадежной. Появилась Варя в «Вишневом саде». Сам театр Ленсовета в момент этого спектакля казался вишневым садом, который продается за долги и из которого навсегда уезжает Раневская-Фрейндлих. Но уехала не только она, к каким-то неизвестным «Рагулиным» ушла и верная этому дому Варя-Никулина.
Какое-то время назад мне хотелось написать о нескольких актерах, на которых когда-то держались театры, а потом поворот судьбы — и как объяснить следующим театральным поколениям, что такое был для Молодежного театра в пору В. Малыщицкого — О. Попков, совершенно затерявшийся в БДТ. Чем был для Е. Падве — А. Чабан из нынешней Сатиры, чем актер той же Сатиры В. Особик был для театра во времена «Царя Федора».
… Чем была для театра Ленсовета Галина Никулина. Конечно, Ленсовет 70-х — это Алиса Фрейндлих. Но она была Она, потому что множество ее граней отсвечивало гранями других — тех, кто был рядом. Рядом была Галина Никулина.
Где она? Что она? Почему не в театре?
Ноябрь 1998 г.
Марина Дмитревская
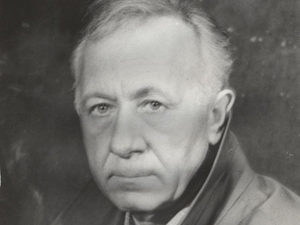

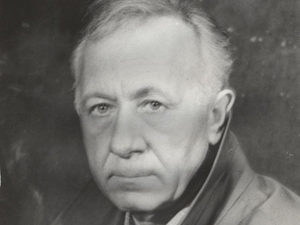








обсуждение >>