Кинематограф остается эффективным средством влияния (в том числе и политического, идеологического) на аудиторию. Следовательно, изучение трансформации образа России на западном экране сегодня по-прежнему актуально. Среди задач, поставленных в монографии, - определение места и роли темы трансформации образа России в западном кинематографе с 1946 (старт послевоенной идеологической конфронтации) по 1991 (распад Советского Союза) годы в сравнении с тенденциями современной эпохи (1992-2010); изучение политического, идеологического, социального, культурного контекста, основных этапов развития, направлений, целей, задач, авторских концепций трактовки данной темы на западном экране; классификация и сравнительный анализ идеологии, моделей содержания, модификаций жанра, стереотипов западного кинематографа, связанного с трактовками образа России.
Для исследователей в области политологии, культурологии, киноведения, медиакультуры, социологии, преподавателей, аспирантов и студентов вузов гуманитарных ециальностей.
Содержание
Введение.
1. Динамика кинопроизводства западных фильмов, связанных с советской/российской тематикой
2. Образ России на западном экране в эпоху идеологической конфронтации (1946-1991): от эпохи позднего сталинизма к эпохе «оттепели», от эпохи «разрядки» и «стагнации» до эпохи «перестройки»
2.1. Пять медийных мифов времен идеологической конфронтации
2.2. Краткая история «идеологической борьбы» на экране (1946-1991 годы)
2.3. Кинематографические стереотипы эпохи «идеологической конфронтации» (1946-1991)
2.4. Идеологический, структурный анализ трактовки образа России на западном экране в эпоху идеологической конфронтации (1946-1991) (на примере фильма Т.Хэкфорда «Белые ночи»)
3. Образ России на западном экране: современный этап (1992-2010)…
3.1. Медийные мифы пост-коммунистических времен (1992-2010)
3.2. Краткая история трансформации российской тематики на западном экране: 1992-2010 годы
3.3. Кинематографические стереотипы российской темы на западном экране в современную эпоху (1992-2010 годы)
3.4. «Индиана Джонс и Храм хрустального черепа» Стивена Спилберга как пародийная трансформация медийных стереотипов «холодной войны» в рамках массовой/популярной культуры XXI века
3.5. Идеологический, структурный анализ трактовки образа России на западном экране в постсоветскую эпоху (1992-2010) (на примере фильма «Душка» Й.Стеллинга)
Заключение
Приложения
Прил. 1. Цифровые данные по западным игровым фильмам, связанным с российской тематикой (1946-2009)
Прил. 2. Цифровые данные по жанрам западных игровых фильмов, связанных с российской тематикой (1946-2009)
Прил. 3. Цифровые данные по западным игровым фильмам, связанным с советской/российской тематикой и советским
фильмам на западную тему (1946-1991)
Прил. 4. Ключевые даты и политические события в мире, важные для развития российско-западных отношений (1946-2009)
Прил. 5. Образ Запада на российском экране в эпоху «холодной войны»: эскизы.
Прил.5.1. «Тайна двух океанов» - роман и его
экранизация: идеологический и структурный анализ
Прил.5.2. «Человек-амфибия» - роман и его экранизация:
анализ культурной мифологии медиатекста
Прил. 5.3. «Случай с ефрейтором Кочетковым» (1955) и его
ремикс «Сады скорпиона» (1991)
Прил. 6. Фильмография (829 фильмов) по теме трансформации образа России на западном экране (1946-2009)
Коротко об авторе
Введение
Политические, идеологические, исторические, социокультурные аспекты эпохи «холодной войны» в целом довольно часто становились предметом исследования
[Печатнов, 2006; Рукавишников, 2000; Холодная война…, 2003; Keen, 1986; LaFeber, 1990; Levering, 1982 и др.]. Что касается трактовки образа России на западном экране, то, исходя из трудов отечественных и зарубежных ученых
[Власов и др., 1997, Гинзбург, Зак, Юренев и др., 1975; Грошев, Гинзбург, Лебедев, Долинский и др., 1969; Туровская, 1993; 1996; 2003; Фомин, 1996; Юренев, 1997; Douglas, 2001; Hess, 2003 и др.], можно сделать вывод, что тема трансформации образа России в западном кинематографе от эпохи «холодной войны» (1946-1991) до современной эпохи (1992-2010) все еще остается малоизученной.
Западные исследователи опубликовали немало книг и статей об «образе врага» (т.е. России) в эпоху «холодной войны». К примеру, в монографии американских политологов М.Страды и Х.Тропера
[Strada, and Troper, 1997] проанализирован ряд американских фильмов на тему «холодной войны» и сделан точный вывод о том, что «хамелеоноподобное» изображение русских в голливудском кинематографе часто меняло цвет – «то красный, то розовато-красный, то белый или синий – в зависимости от изменений внешней политики»
[Strada, Troper, 1997, p.200]. Однако эти авторы, во-первых, не ставили перед собой цель сравнительного анализа кинообраза России советского и постсоветского периодов, а, во-вторых, анализировали не в целом западные, а только американские медиатексты.
Кинематограф (благодаря телепоказам, видео и DVD) остается эффективным средством влияния (в том числе и политического, идеологического) на аудиторию. Следовательно, изучение трансформации образа России на западном экране сегодня по-прежнему актуально. Среди задач настоящего исследования - определение места и роли темы трансформации образа России в западном кинематографе с 1946 (старт послевоенной идеологической конфронтации) по 1991 (распад Советского Союза) годы в сравнении с тенденциями современной эпохи (1992-2010); изучение политического, идеологического, социального, культурного контекста, основных этапов развития, направлений, целей, задач, авторских концепций трактовки данной темы на западном экране; классификация и сравнительный анализ идеологии, моделей содержания, модификаций жанра, стереотипов западного кинематографа, связанного с трактовками образа России.
Методология исследования основана на ключевых философских положениях о связи, взаимообусловленности и целостности явлений действительности, единства исторического и социального в познании, на теории диалога культур М.Бахтина-В.Библера. Исследование опирается на исследовательский содержательный подход (выявление содержания изучаемого процесса с учетом совокупности его элементов, взаимодействия между ними, их характера, обращения к фактам, анализа и синтеза теоретических заключений и т.д.), на исторический подход - рассмотрение конкретно-исторического развития заявленной темы в западном кинематографе.
Для этого используются как методы теоретического исследования: классификация, сравнение, аналогия, индукция и дедукция, абстрагирование и конкретизация, теоретический анализ и синтез, обобщение, моделирование; так и методы эмпирического исследования: сбор информации, касающейся тематики исследования. Эффективность такого рода методов была доказана как западными
(Р.Тейлор, Д.Янгблад, А.Лаутон и др.), так и российскими
(Н.М.Зоркая, Э.А.Иванян, М.И.Туровская, А.О.Чубарьян и др.) исследователями.
Известно, что трактовка медиатекстов изменчива и часто подвержена колебаниям курсов политических режимов. После пика идеологической конфронтации эпохи позднего сталинизма и пика маккартизма (1946-1953), когда в экранных «образах врага» преобладал взаимный злой гротеск, «оттепель» конца 1950-х – первой половины 1960-х годов повлияла на ситуацию идеологической конфронтации в медиасфере в сторону более правдоподобного изображения «вероятного противника». А политических поводов для идеологической и медийной конфронтации всегда хватало, что не раз отмечалось как западными, так и российскими исследователями
[Jones, 1972; Keen, 1986; LaFeber, 1990; Levering, 1982; Shlapentokh, 1993; Small, 1980; Strada, 1989; Strada and Troper, 1997; Whitfield, 1991; Иванян, 2007; Климонтович, 1990; Ковалов, 2003; Туровская, 2003]. При этом каждая из противостоящих сторон выбирала более выгодные для себя факты, обходя стороной «темные пятна».
Отсюда понятно, что в советской научной и публицистической литературе, посвященной теме «идеологической борьбы на экране»
[см. например: Ашин, Мидлер, 1986, с.83; Баскаков, 1981, с.16-17; Кокарев, 1987, с.5-6; Комов, 1982, с.13; Кукаркин, 1985, с.377], бушевал бурный поток гневных обличений пороков буржуазного кинематографа, как, впрочем, и западного мира в целом. При этом «для создания выгодной руководству СССР информационной реальности у пропагандистов были все предпосылки и условия: опыт, монополия государства на средства массовой информации и саму информацию, доверие граждан к властям и газетным сообщениям, низкий уровень политической культуры и грамотности части населения, традиционное недоверие к Западу»
[Фатеев, 1999].
Правда, и в трудах более либерально настроенных киноведов советской эпохи
[Долматовская, 1976, с.221-223; Капралов, 1984, с.379; Карцева, 1987, с.199-201; Соболев, 1975, с.18] довольно часто встречались однозначные пассажи, рассчитанные на советских зрителей, никогда в жизни не видевших антисоветских фильмов, и никогда не пытавшихся выйти на уровень сравнительного анализа медийных стереотипов «по обе стороны железного занавеса».
Впрочем, эволюция интерпретаций западных кинотекстов советской и российской критикой – тема для отдельного исследования. В этой книге нас в первую очередь интересует образ России, увиденный западным «киновзглядом».
Глава 1. Динамика кинопроизводства западных фильмов, связанных с советской/ российской тематикой
Проследим динамику производства фильмов советской/российской тематики в ведущих западных странах (США, Великобритании, Франции, ФРГ, Италии и др.) с 1946 по 2009 годы. В этот период на Западе было поставлено около 830 игровых западных фильмов, связанных с российской тематикой. Конечно, в таблицах 1 и 2 (см. приложение) учтены наиболее заметные игровые ленты; к ним можно добавить сотни документальных кино/телефильмов и теле/радиопередач.
В своей монографии «Друг или враг?» М.Страда и Х.Тропер утверждают, что
«c 1946 по 1962 год русская тема входила в список тех, что Голливуд предпочитал не касаться: за этот период там было снято лишь 16 фильмов, то есть в среднем одна лента в год» [Strada, Troper, 1997, p.76]. Наше исследование (см. таб.1 в приложении) показало, что эта цифра сильно занижена: на самом деле в этот период Голливуд обращался к русской теме как минимум 89 раз, то есть в год выпускалась в среднем не один, а пять фильмов о России/СССР и с русскими персонажами. При этом только в одном 1952 году российская тема была так или иначе затронута в 16 фильмах.
При этом соотношение между западными игровыми фильмами, связанными с советской/российской тематикой, и советскими фильмами на западную тему в 1946-1991 (подробнее см. приложение) таково: 574 западных (из них – 242 американских и 122 - британских) на 128 советских.
В таблице 1 (см. приложение), приводятся подробные (по каждому году) цифровые данные по западным игровым фильмам, связанным с советской/российской тематикой, по ним можно легко проследить пики интереса к СССР/России, в значительной степени связанные с ключевыми датами политических событий в мире, важными для развития российско-западных отношений (см. приложение).
Если свести данные обширной таблицы 1 (см. приложение) в диаграмму 1, то она будет выглядеть следующим образом:
Диаграмма 1. Соотношение числа западных игровых фильмов, связанных с советской/российской тематикой, распределенных по отдельным странам.
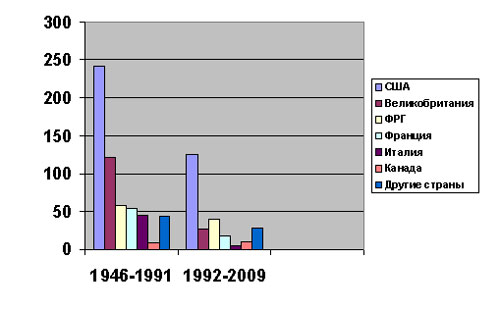
То есть даже по упрощенной диаграмме 1 можно проследить, что в период с 1946 по 2009 США доминировали по числу фильмов, связанных с российской тематикой (что, впрочем, соответствует и общему масштабу вклада США в мировое фильмопроизводство), вдвое опережая Великобританию и с еще большим разрывом - ФРГ, Францию, Италию и Канаду.
При этом надо отметить, что, в отличие от США, в Италии и Франции из-за сильного влияния национальных коммунистических партий в первое послевоенное десятилетие антисоветские и антикоммунистические фильмы практически не снимались. По аналогичным причинам там был крайне ограничен и прокат американских антикоммунистических фильмов. Более того, если на экраны Франции и попадали такого рода ленты (к примеру,
«Дипломатический курьер»), то они дублировались на французский язык так, чтобы в тексте не была понятна национальная и государственная принадлежность врагов/шпионов
[Lacourbe, 1985, p.20-21].В находившейся в фарватере американской политики Великобритании ситуация была, конечно, иная, но и тут «некоторые кинопроизводители, возможно, отказались от бурного антикоммунистического наступления по политическим причинам. Антисоветскому консенсусу в послевоенной Великобритании препятствовал ряд факторов, включая симпатию к советским мнениям о безопасной Западной границе, американскую ненадежность и веру некоторых левых в потенциальную совместимость коммунизма и социал-демократии»
[Shaw, 2006, p.27].
Данные таблицы 1 (см. приложение) показывают, что пики западного интереса к советской/русской теме на экране пришлись на 1952 (17 фильмов), 1955-1958 (в среднем 11 фильмов ежегодно), 1962-1974 (в среднем по 16 фильмов ежегодно), 1984-1990 (в среднем по 16 фильмов ежегодно) годы. А с 1996 года этот интерес стал поддерживаться на стабильно высоком уровне (в среднем - около 15 фильмов ежегодно). Однако если сравнить 45-летний период с 1946 по 1991 с 17-летним периодом с 1992 по 2009 год, обнаруживается отчетливая тенденция «среднестатистического» увеличения доли западных фильмов о России и с персонажами российского происхождения. С 1946 по 1991 годы такого рода лент выпускалось в среднем по 12 в год, в то время как с 1992 по 2009 – 14.
Безусловно, производство игровых фильмов существенно отличается от процесса создания медиатекстов в прессе, на радио и телевидении и, тем паче, - в интернете, по оперативности отражения текущих мировых событий: от сценарного замысла до его экранного воплощения и выхода к широкой аудитории проходит, как правило, год-два, а то и больше. Ясно, что игровой кинематограф не мог оперативно – в течение нескольких дней, недель или месяцев - отреагировать ни на Фултонскую речь Черчилля (1946), ни на вторжение советских войск в Афганистан (1979).
Отсюда понятно, почему максимальное количество конфронтационных фильмов пришлось, например, не на омраченную началом войны в Афганистане эпоху 1979-1983 годов, а на 1985 год, когда после последовательной смерти трех престарелых советских лидеров (Л.И.Брежнева, Ю.В.Андропова и К.У.Черненко) к власти в СССР пришел новый, «перестроечно» настроенный и относительно молодой в ту пору М.С.Горбачев, идеи которого (да и он сам) вскоре стали весьма популярны на Западе.
Впрочем, сравнительный анализ данных таблицы 1 - «Цифровые данные по западным игровым фильмам российской тематики (1946-2009)» и таблицы 4 - «Ключевые даты и политические события в мире, важные для развития российско-западных отношений (1946-2009)» (см. приложение), показывает и вполне обоснованную связь уменьшения взаимной «киноконфронтации» после того, как в июне 1973 года был заключен договор о контактах, обменах и сотрудничестве между СССР и США: пик «холодной войны» на экранах 1973-1974 годов (от 13 до 16 фильмов в год) сменился в 1975-1978 годах падением интереса к советской/русской тематике (от 6 до 9 фильмов в год).
И, наоборот, повышенный интерес Запада к российской/советской теме с 1962 по 1970 годы отчетливо зависел от ключевых политических событий тех лет – гонки вооружений и карибского кризиса
(«Красный кошмар», 1962; «Доктор Стренчлав», 1964; «Система безопасности», 1964, «Семь дней в мае», 1964; «Русские идут! Русские идут!», 1966 и др.), космических программ
(«Мышь на Луне», 1963 и др.), создания берлинской стены
(«Побег из Восточного Берлина», 1962; «Берлинский поезд остановлен», 1964; «Берлин, место встречи шпионов», 1966; «Похороны в Берлине», 1966 и др.), вторжения советских войск в Чехословакию (серия документальных фильмов и телепередач) и т.д., а в 1984-1990 годах – от афганской войны и «перестройки» в СССР.
При этом положительных портретов русских в Голливуде было всегда меньше, чем отрицательных. Например, М.Страда и Х.Тропер подсчитали, что с 1946 по 1991 год отрицательный и так называемый «смешанный»/амбивалентный образ России можно было усмотреть в общей сложности в 71% американских игровых фильмов
[Strada, Troper, 1997].
В среднем с 1946 по 2009 года на Западе ежегодно снималось примерно по 13 фильмов (из них 6 - американских), связанных с советской/русской темой (кстати, число советских фильмов на американскую/западную тему с 1946 по 1991 годы было в 4,5 раза меньше западной «кинороссики»). Однако, если исключить многочисленные западные экранизации русской классики и сравнить число только американских и советских фильмов с открыто конфронтационными сюжетами, окажется что на 130 лент производства СССР приходилось примерно столько же картин США. В отдельные временные периоды доминировало производство то антизападных, то антисоветских лент. В остальное время соблюдался некий идеологический «паритет».
Начиная с 1992 года ситуация с «паритетом» резко изменилась: Запад по-прежнему сохранил повышенный интерес к российской тематике (255 фильмов с 1992 по 2009 годы, из них – 125 – американских), в том время, как российский кинематограф в основном сконцентрировался на «домашних» проблемах, коих, к слову, было немало…
Правда, и сегодня «иметь непредвзятый образ России американцам мешает глубоко укоренившееся чувство превосходства. Средства массовой информации дают скорее отрицательный образ России, кроме того, их интересуют, в первую очередь, выборы, здоровье президента (как тут не вспомнить гротескную комедию
«Вытаскивая Бориса» Р.Споттисвуда о том, как американские имиджмейкеры помогли больному и потерявшему чувство реальности Б.Н.Ельцину выиграть президентские выборы 1996 года – А.Ф.), борьба за власть, возможность возврата к коммунизму, война на периферии России или русская мафия»
[Мосейко, 2009, с.29].
Возвращаясь к анализу диаграммы 1, можно обнаружить, что в период с 1992 по 2009 год ФРГ вышла на второе место по «кинороссике», оттеснив Великобританию, уверенно занимавшую вторую позицию в 1946-1991 годах. Думается, такой интерес немецких кинематографистов к русской тематике связан не только с объединением Германии и драматическим прошлым взаимоотношений русского и немецкого народов, но и с тем, что в 1990-х – начале XXI века на берлинских и мюнхенских студиях появилось немало российских эмигрантов, заинтересованных в создании «кинороссики».
Интересно также проследить, как изменялось соотношение числа западных игровых фильмов, связанных с советской/российской тематикой, распределенных по жанрам. Как видно из диаграммы 2, в жанровом отношении в период с 1946 по 2009 год в западной «кинороссике» доминировали: драмы (371), комедии (136), триллеры и детективы (114), боевики (100) и мелодрамы (59). На предпоследнем месте среди жанров оказалась фантастика (46), хотя в отдельные периоды истории - во времена ядерной конфронтации начала 1950-х и начала космической эры (1957-1963) - фильмы фантастического жанра занимали довольно значительное место в репертуарной сетке.
С более подробными данными о жанровом распределении западных фильмов, связанных с российской тематикой, можно познакомиться в таблице 2 (см. приложение).
Диаграмма 2. Соотношение числа западных игровых фильмов, связанных с советской/российской тематикой, распределенных по жанрам.
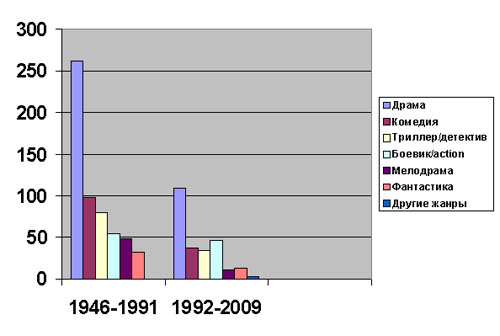
Доминанта драмы вполне объяснима – не только конфронтационные сюжеты, но и многочисленные экранизации русской классики воплощались именно в драматическом жанре. Сравнивая данные таблиц 2 и 3 (см. приложение) с составленной нами фильмографией западной «кинороссики» 1946-2009 годов, можно увидеть, что комедий на русскую тему становилось больше именно в годы относительной разрядки военного противостояния (1964-1967), в том время, как экранизации русской классики, начиная с 1958 по 1975 распределялись по годам более-менее равномерно (от 5 до 9 экранизаций ежегодно (при этом, правда, мы не учитывали экранизации, действие которых переносилось из России в США или Западную Европу).
Ощутимое снижение числа западных экранизаций русской классики (в среднем до двух-трех ежегодно) стало наблюдаться в период нового витка военного противостояния первой половины 1980-х, а затем в эпоху «перестройки», когда западная «россика» стремились быть максимально актуальной по отношению к событиям в России.
Лидером по числу западных экранизаций до сих пор остается А.П.Чехов – его произведения становились основой для кино/телеверсий около 200 раз. Охотно зарубежные кинематографисты обращались и к прозе Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого – на каждого из них приходится свыше 100 западных экранизаций. Затем идут экранизации произведений А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Н.С.Тургенева (свыше 50 на каждого).
У А.П.Чехова чаще всего экранизировались пьесы. У Ф.М.Достоевского – романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» и «Бесы». У Л.Н.Толстого – «Анна Каренина» и «Война и мир». У Н.В.Гоголя - «Ревизор» и «Женитьба». Творчество А.С.Пушкина представлено на Западном экране в основном в виде киноопер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама».
Всего с 1946 по 2009 год на Западе было снято не менее 200 экранизаций русской классики, что составило четвертую часть от общего числа фильмов о России и с русскими персонажами. И этот не случайно, так как еще «с конца XIX века произведения Н.Гоголя, Ф.Достоевского, Л.Толстого, А.Чехова прочно вошли в духовную культуру Запада, в западную ментальность XX века. Их герои стали знаками, эмблемами русского национального характера, русской души, во многом они маркировали образ России. В русском романе и в русской культуре вообще западные (а позже и восточные) национальные культуры находили идеи, образы, проблемные коллизии, созвучные времени, конкретным обстоятельствам и запросам этих культур. «… особенно острыми стали ощущения недостатка духовности, десарализации мира, отчуждения и потерянности человеческой личности в модернизирующемся мире. В русской культуре западная культура обнаружила глубокие духовные смыслы, поиск абсолютных ценностей, трагические глубины человеческой личности, открыла для себя богатство русско-восточных традиций»
[Мосейко, 2009, с.24].
В задачи нашего исследования не входил анализ трактовки образа России в киноискусстве стран Восточной Европы и Балтии, однако, стоит отметить, что начиная с 1990-х годов кинематограф этих государств все чаще обращается к российской тематике. Как правило, это драматические истории о самых болезненных и трагических страницах нашего совместного прошлого (самый яркий пример -
«Катынь» А.Вайды). Удивляться этому не приходится: вырвавшись из плена «социалистического лагеря», восточно-европейские страны получили возможность открыто критиковать российскую политику – как в историческом, так и в современном контексте, что не могло не отразиться на кинематографических образах бывшего «Большого Брата»…
Глава 2. Образ России на западном экране в эпоху идеологической конфронтации (1946-1991): от эпохи позднего сталинизма к эпохе «оттепели», от эпохи «разрядки» и «стагнации» до эпохи «перестройки».
2.1. Пять медийных мифов времен идеологической конфронтации
Эпоха «холодной войны» и идеологической конфронтации между Западом и СССР породила немало мифов на так называемом «бытовом уровне».
Миф первый: для западных кинематографистов в «идеологической борьбе» главной была антисоветская, антикоммунистическая направленность.
Конечно, антисоветизм западного экрана играл важную роль в холодной войне, однако не стоит забывать, что во все времена политика Запада во многом была антироссийской, и всякое усиление России (экономическое, военное, геополитическое) воспринималось как угроза Западному миру. Эту тенденцию можно проследить и во многих западных художественных произведениях – как до возникновения СССР, так и после его распада. Точно также антибуржуазная/антикапиталистическая направленность советских фильмов на зарубежную тему вполне сочеталась с традиционными для России антизападными мотивами…
Миф второй: известные мастера старались быть выше «идеологической борьбы», поэтому идейная конфронтация стала уделом ремесленников класса «Б».
Даже поверхностный взгляд на фильмографию (см. приложение) времен экранной конфронтации 1946-1991 годов легко опровергает этот тезис. Как с западной стороны, так и с советской стороны в процесс «идеологической борьбы» были вовлечены такие известные режиссеры, как Коста-Гаврас, Дж.Лоузи, С.Люмет, С.Пенкинпа, Б.Уалдер, П.Устинов, А.Хичкок, Дж.Хьюстон, Дж.Шлезингер, Г.Александров, А.Довженко, М.Калатозов, М.Ромм и, конечно же, десятки знаменитых актеров самых разных национальностей.
Миф третий: советская цензура запрещала все произведения с участием западных авторов, имевших отношение к созданию хоть одного антисоветского медиатекста.
На деле советская цензура запрещала произведения в основном тех деятелей западной культуры (например, И.Монтана и С.Синьоре после выхода их совместной работы в «Признании»), которые, помимо участия в «конфронтационных» произведениях, открыто и наступательно занимали антисоветскую позицию в реальной политической жизни. Съемки в фильмах антисоветской направленности Б.Андерсон, Р.Бартона, И.Бергман, К.-М.Брандауэра, Ю.Бриннера, Л.Вентуры, А.Делона, М.Кейна, Ш.Коннери, Ф.Нуаре, П.Ньюмена, Л.Оливье, Г.Пека, М.Пикколи, М. фон Сюдова, Г.Фонды и многих других знаменитостей никоим образом не отразились на прокате в Советском Союзе «идеологически нейтральных» произведений с их участием. Более того, некоторых из этих мастеров даже приглашали в совместные советско-западные постановки. Другое дело, что их идеологические «шалости» замалчивались в советской прессе. Видимо, тогдашнее кремлевское руководство хорошо понимало, что если запрещать все фильмы, книги и статьи «проштрафившихся» западных деятелей культуры, то скоро в советских библиотеках и кинотеатрах возник бы супердефицит зарубежных медиатекстов в целом…
Миф четвертый: западные антисоветские медиатексты всегда были правдивее советских антизападных опусов.
Здесь опять-таки медиатекст медиатексту рознь. Да, на фоне некоторых антизападных поделок
(к примеру, «Серебристой пыли» А.Роома или «Заговора обреченных» М.Калатозова), «Николай и Александра» Ф.Шеффнера и
«Убийство Троцкого» Дж.Лоузи куда более правдивы и убедительны. Однако антисоветские боевики
«Красный рассвет» или «Америка» выглядят, мягко говоря, неправдоподобно даже по сравнению с советским милитаристским боевиком
«Одиночное плавание», ставшим своего рода контр-реакцией на победный пафос американского «Рембо»…
Миф пятый: «конфронтационные» медиатексты художественно настолько слабы, что не заслуживают ни внимания, ни критического анализа.
В этом отношении можно сказать следующее. С одной стороны среди медийных продуктов «холодной войны» можно обнаружить не так уж мало значительных в художественном отношении произведений
(«Я – Куба» М.Калатозова, «Мертвый сезон» С.Кулиша, «Убийство Троцкого» Дж.Лоузи, «Красные» У.Битти, «1984» М.Редфорда и др.). А с другой – никакой метод не может быть признан исчерпывающим для анализа медиатекста, «поскольку даже самый примитивный фильм является многослойной структурой, содержащей разные уровни латентной информации, обнаруживающей себя лишь во взаимодействии с социально-политическим и психологическим контекстом. … как бы тенденциозен – или, напротив, бесстрастен – ни был автор фильма, он запечатлевает гораздо больше аспектов времени, чем думает и знает сам, начиная от уровня техники, которой он пользуется, и кончая идеологическими мифами, которые он отражает»
[Туровская, 1996, с.99].
2.2.Краткая история «идеологической борьбы» на экране (1946-1991 годы)
Под холодной войной обычно понимается «тотальное и глобальное противостояние двух сверхдержав в рамках биполярной системы международных отношений. Предпосылки холодной войны заключались в принципиальном различии социально-экономических и политических систем ведущих мировых держав после разгрома блока агрессоров: тоталитарный политический режим с элементами личной диктатуры и сверхцентрализованная плановая экономика, а одной стороны, западная либеральная демократия и рыночная экономика – с другой»
[Наринский, 2006, с.161]. В значительной степени холодная война была также обусловлена «политическим и социальным развитием так называемого «третьего мира» (деколонизация, революции и пр.)»
[Westad, 2007, p.396], и каждый из противников стремился любыми способами расширить зону своего влияния в Африке, Азии и Латинской Америке.
При этом, конечно, противостояние России (в любые времена и при любых режимах) и Запада (также в любые времена и при любых режимах) было связано и с куда более глубинными причинами.
Здесь я полностью согласен с Я.Г.Шемякинам: «противоречивость цивилизационного статуса России находит прямое отражение в противоречивости ее восприятия на Западе: налицо столкновение различных оценок, превратившихся в инвариантный фактор динамики подобного восприятия. В целом Россия всегда одновременно и притягивала, и отталкивала Запад. Один из факторов притяжения – общность исторических истоков, нашедшая свое конкретное выражение в индоевропейских языковых корнях, праиндоевропейской мифологической основе и христианских истоках. Все это вместе взятое создает, несомненно, общее символическое поле, в рамках которого и осуществляются многообразные контакты «Россия-Запад». Однако действие данного фактора чаще всего перекрывалось в истории острым ощущением (а часто и осознанием) цивилизационной чуждости России Западу, ее инаковости, что было, несомненно, сильным фактором отталкивания. … особо раздражала чуждость несмотря на похожесть, воспринимавшаяся как внешняя оболочка, под которой таилось нечто иное, неевропейское»
[Шемякин, 2009, с.19-20]. При этом чем сильнее и значимее становилась Россия, тем сильнее становилась ее идеологическая (а в последние столетия и медийная) конфронтация с Западными миром (что, в частности, и произошло после 1945 года, когда всем стало ясно, что победивший нацистскую империю Советский Союз обладает самой мощной военной силой в Европе).
Понятие «холодная война» тесно связано с такими понятиями, как «информационно-психологическая война», «идеологическая борьба», «политическая пропаганда», «идеологическая пропаганда», «пропаганда» (здесь и далее под «пропагандой» мы будем понимать целенаправленное регулярное медийное внедрение в массовое сознание той или иной идеологии для достижения того или иного намеченного социального эффекта) и «образ врага». По справедливому определению А.В.Фатеева, «образ врага» — идеологическое выражение общественного антагонизма, динамический символ враждебных государству и гражданину сил, инструмент политики правящей группы общества. … Образ врага является важнейшим элементом «психологической войны», представляющей собой целенаправленное и планомерное использование политическими противниками пропаганды в числе прочих средств давления для прямого или косвенного воздействия на мнения, настроения, чувства и поведение противника, союзников и своего населения с целью заставить их действовать в угодных правительству направлениях»
[Фатеев, 1999].
До сих пор существует мнение, что «в период «холодной войны»
[по-видимому, имеется в виду начальный период 1946-1955 годов – А.Ф.] русский вопрос обходился деятелями искусства стороной, однако на 1970-1990-е годы приходится много фильмов на русскую тему»
[Мосейко, 2009, с.30]. Не могу согласиться с таким утверждением. На самом деле эпоха «холодной войны» стала источником создания множества как антисоветских/антикоммунистических, так и антизападных/антибуржуазных фильмов, выпущенных на экраны в рамках указанного временного интервала (после того, как 5 марта 1946 года У.Черчилль произнес свою знаменитую Фултонскую речь, содержащую резкую критику политики СССР, а в августе-сентябре
1946 года по инициативе И.В.Сталина были приняты «антикосмополитические» постановления «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре драматических театров и мерах по их улучшению» и «О выписке и использовании иностранной литературы»).
Взаимная идеологическая конфронтация велась на всех фронтах «холодной войны». С февраля 1947 года мюнхенский филиал радиостанции «Голос Америки» стал вести пропагандистские передачи на русском языке (которые с весны 1948 года Кремль приказал глушить всеми доступными техническими средствами). А в октябре 1947 года по инициативе сенатора Дж.Маккарти в вашингтонском Капитолии начались слушания по результатам расследования «антиамериканской и коммунистической деятельности» ряда известных деятелей американской культуры. Тогдашний президент Лиги кинопродюсеров Америки Э.Джонстон в студии РКО «рассказал своим слушателям, что после беседы с государственным секретарем Маршаллом, сенатором Ванденбергом и другими он пришел к совершенно твердому пониманию того, что необходимо было немедленно начинать официальную политику противопоставления своей мощи советской экспансии, подчеркнув, что эта политика должна встретить поддержку в кинофильмах, выпускаемых в США» [
Цит. по: Фатеев, 1999].
В аналогичном ключе развивались события и в СССР. П.Бабитский и Дж.Римберг подсчитали, что количество отрицательных киноперсонажей западного происхождения (без учета персонажей-немцев из фильмов о второй мировой войне), изображенных в советских фильмах с 1946 года по 1950 год, по сравнению с 1920-ми–1930-ми годами возросло втрое, достигнув 36-ти
[Babitsky and Rimberg, 1955, p.223]. С другой стороны, в 1946 году советский Комитет по кинематографии отобрал для массового проката в СССР всего 5 из 50 фильмов, предложенных ему дистрибьюторами американских компаний
[Иванян, 2007, с.248].
Более того, в апреле-мае 1949 года в СССР был разработан специальный «План мероприятий по усилению антиамериканской пропаганды на ближайшее время», предусматривавший «систематическое печатание материалов, статей, памфлетов, разоблачающих агрессивные планы американского империализма, антинародный характер общественного и государственного строя США, развенчивающих басни американской пропаганды о «процветании» Америки, показывающих глубокие противоречия экономики США, лживость буржуазной демократии, маразм буржуазной культуры и нравов современной Америки»
[План…, 1949]. Помимо всего прочего, внешняя угроза была «удобным оправданием внутренних неурядиц и противоречий в социально-экономическом и политическом строе, которые в иной ситуации могли восприниматься жителями СССР как свидетельство его несовершенства»
[Фатеев, 1999].
К созданию антизападных (в первую очередь – антиамериканских) фильмов были причастны как классики отечественного экрана - А.Довженко («Прощай, Америка!»), М.Калатозов («Заговор обреченных»), М.Ромм («Секретная миссия»), А.Роом («Серебристая пыль»), так и ныне забытые сценаристы и режиссеры. В этих пропагандистских лентах «практически все американские персонажи изображались шпионами, диверсантами, антисоветскими провокаторами»
[Иванян, 2007, с.274].
Особое значение в сюжетах «холодной войны» на экране придавалось мотиву безуспешных попыток соблазнения западными спецслужбами советских ученых. К примеру, в фильме Г.Рошаля
«Академик Иван Павлов» (1949) «изменник Петрищев приводит американца Хикса, предлагающего Павлову уехать в Америку. Хикс маскирует свой грязный бизнес излюбленным доводом космополитов — прислужников империализма: «Для человечества не важно, где вы будете работать». В гневном ответе Павлова звучит горячий патриотизм большого русского ученого: «Наука имеет отечество, и ученый обязан его иметь. Я, сударь мой, — русский. И мое отечество здесь, что бы с ним не было»
[Асратян, 1949].
Исследователь данного периода «холодной войны» М.И.Туровская верно отмечает, что медийное «превращение недавних союзников в «образ врага» осуществлялось сюжетно через тайную связь американцев (естественно, классово чуждых: генералов, сенаторов, бизнесменов, дипломатов) с нацистами, будь то «секретная миссия» переговоров о сепаратном мире, похищение патентов или изготовление химического оружия. Отождествление американцев с нацистами – единственная «тайна» всего пакета фильмов «холодной войны», а в
«Заговоре обреченных» восточно-европейские социал-демократы приравниваются уже, как абсолютному злу, к американцам»
[Туровская, 1996, с.100].
Парадоксально, но автор плакатно-антизападного, переполненного пропагандистскими штампами, примитивного по драматургии «Заговора обреченных» (1950) М.Калатозов всего через семь лет прославился гуманистическим шедевром «Летят журавли», получившим «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Но тогда, на пике идеологической конфронтации, М.Калатозов создал своего рода политический комикс, покадрово иллюстрирующий газетные передовицы «Правды» и «Красной звезды».
…В некой восточно-европейской стране (по всем приметам - Чехословакии) создан широкий альянс заговорщиков (националисты, католики, бывшие нацисты и примкнувшие к ним социал-демократы), идейно и финансово поддержанный США и их «югославскими приспешниками». Единственной силой, защищающей «подлинные интересы трудящихся», в этой стране оказываются, разумеется, коммунисты, твердо и бесповоротно ориентированные на Советский Союз (авторы даже не задумались над тем, насколько пародийно/разоблачительно звучит в фильме их лозунг: «Клянемся Сталину и советскому народу - беречь свободу и независимость нашей страны!»). Разогнав по большевицкому образцу 1917-1918 годов местный парламент, коммунисты легко одерживают победу над «обреченными» депутатами (избранными, между прочим, путем демократических выборов)…
В фильме были заняты многие известные актеры того времени (П.Кадочников, В.Дружников, М.Штраух и др.), потенциально способные сыграть объемные характеры. Однако в данном случае от них требовалось иное – жестко акцентированный гротеск и пафос. И надо сказать, с этой задачей они справились отменно: в «Заговоре обреченных» нет ни одного живого, мало-мальски очеловеченного персонажа… Вот, к примеру, вполне точно описанная одним из самых авторитетных советских киноведов Р.Н.Юреневым трактовка роли католического кардинала знаменитым А.Вертинским: «капризные интонации, изощрённый жест, напыщенность князя римской церкви служат прикрытием для прожжённого диверсанта и заговорщика. Вертинский подчёркивает как бы два плана психологии кардинала: изысканность, аристократизм – сверху, и злобу, трусость – внутри»
[Юренев, 1951].
Вместе с тем, оценивая картину М.Калатозова в целом, Р.Н.Юренев делал стандартный для сталинской пропаганды вывод: это «произведение искусства, рассказывающее правду о борьбе свободолюбивых народов под руководством коммунистических партий с тёмными силами международной реакции, за строительство социализма. Фильм «Заговор обречённых» – правдивое и яркое произведение советского киноискусства – новый вклад в борьбу за мир, за свободу и независимость народов, за коммунизм»
[Юренев, 1951].
В этом контексте киновед М.С.Шатерникова вспоминает свои школьные впечатления (пришедшиеся на рубеж 1940-х-1950-х годов) от коллективного просмотра этого фильма: «Мы не задумывались. Все было понятно: империализм показал свое подлинное звериное лицо. О том, что происходило в Восточной Европе, нам сообщал фильм «Заговор обреченных» - тамошняя реакция при помощи американцев хотела поработить трудящихся, но те сорвали заговор и дружно проголосовали за коммунистов. Откуда нам было знать, что в жизни, а не в кино, развертывался несколько иной вариант?»
[Шатерникова, 1999].Так что свою политическую миссию в холодной войне «Заговор обречённых» отработал на все сто процентов…
Аналогичные медиатексты, но уже антисоветской направленности создавались во второй половине 40-х – первой половине 50-х годов XX века и на Западе, в первую очередь – в США («Железный занавес», «Берлинский экспресс», «Красный Дунай», «Я был коммунистом по заданию ФБР», «Военнопленный» и др.).
«Железный занавес» (1948) был своего рода знаковым медийным событием эпохи «холодной войны». В основе ленты были подлинные факты, связанные с историей советского дипломата Игоря Гузенко, попросившего политического убежища в Канаде. Помимо всего прочего, «фильм должен был изобразить изматывающую, напряженную жизнь советских граждан, в частности Гузенко, которых тиранят чиновники и спецслужбы»
[Rubenstein, 1979, p.39]. Воспользовавшись тем, что СССР в те годы еще не подписал международную Бернскую конвенцию об охране авторских прав, американцы обильно включили в фильм «контрафактную» музыку Дм.Шостаковича, С.Прокофьева. А.Хачатуряна, зазвучавшую с экрана в крайне нежелательном для Кремля идеологическом контексте…
Генеральный консул СССР в Нью-Йорке Я.Ломакин писал, что «фильм будет очень враждебен. Советские люди показаны отталкивающими, циничными и клевещущими на свою Родину. ... В связи с пред¬стоящим выпуском такого фильма, нам кажется, уже сейчас было бы целесообразно выступить в советской печати с рядом острых статей и развернуть атаку на голливудских реакционеров, поджигателей новой войны... наше острое и умелое выступление может подготовить зрителей для правильной оценки фильма и оказать положительное влияние на общественное мнение. С другой стороны, наша острая критика голливудских реакционеров и поджигателей войны окажет моральную помощь прогрессивным кругам в США и Канаде в их борьбе против реакции, против создания такого фильма» [Ломакин, 1947, л.242-246].
Признавая художественные слабости картины, американские киноведы Дж.Пэриш и М.Питтс даже спустя 30 лет после ее выхода на экран, были убеждены, что «Железный занавес» рассказывал о русском шпионаже в Канаде 1943 года, давая общественности мягкую трактовку грубой правде: красные агенты наводнили США»
[Parish & Pitts, 1974, p.25]. При этом «мягкость» трактовки проявилась в том, что хотя «Железный занавес» и стал «золотым рудником правой пропаганды, изображая в суровых красках безжалостных Красных и сочувствующих им, действия коммунистов были больше комичными, чем реальными» [Parish & Pitts, 1974, p.243].
Спустя шесть лет в Канаде сняли своего рода продолжение «Железного занавеса» -
«Операцию «Розыск» (1954). Лента особого успеха не имела, что, впрочем, не удивительно, так как «практически все фильмы (снятые в Северной Америке во второй половине 1940-х–1950-х годах – А.Ф.) ограничивались минимальной диалектикой в анализе коммунистической доктрины. ... почти все были коммерчески неудачны и презираемы как критикой, так и интеллигенцией»
[Lacourbe, 1985, p.20].
В 1949 году на экраны США вышел новый фильм о происках коммунистов -
«Красная угроза», главной целью которого «была настойчивая демонстрация расчетливой технологии убийств, разработанной Красными агентами, действующих в Америке»
[Parish & Pitts, 1974, p.389]. И хотя в фильмах об американских коммунистах русские персонажи, как правило, появлялись лишь в небольших эпизодах
[Strada, Troper, 1997, p.93], общая идеологическая направленность от этого не менялась.
Часто тематические параллели взаимной идеологической конфронтации были очевидны. Так, в фильме А.Файнциммера и В.Легошина (по сценарию С.Михалкова)
«У них есть Родина» (1949) советские агенты, преодолевая сопротивление британских спецслужб, возвращали на Родину патриотично настроенных русских детей, попавших после окончания второй мировой войны в оккупационную зону западных стран. Зато в
«Красном Дунае» (1950) Дж.Сидни советские граждане, оказавшиеся в западной оккупационной зоне Вены, не хотели вернуться на родину из-за боязни стать жертвами сталинских репрессий…
Несколько забегая вперед, отмечу, что в драме Дж.Ли Томпсона
«Перед наступлением зимы» (1969) возникла вариация сюжета из «Красного Дуная»: злобные советские «союзники» (к слову, показанные в фильме Томпсона весьма гротескно, на грани пародии) осенью 1945 требовали от английского майора депортации «перемещенных лиц» русского и восточноевропейского происхождения в зону советской оккупации в Австрии. А когда один из несчастных пытался бежать в лес, его мгновенно поражали меткие выстрелы советских снайперов…
В этом отношении весьма любопытна перекличка реальных событий по обе стороны «железного занавеса». Да, можно согласиться с М.И.Туровской в том, что «атмосфера взаимной подозрительности, хамства, цинизма, страха, сообщничества и разобщенности, окрасившая последние годы сталинизма и полностью вытесненная из отечественной «темы», могла реализоваться лишь в конструкции «образа врага»
[Туровская, 1996, с.106]. Но, увы, весьма похожая атмосфера, несмотря на все американские демократические традиции, возникла и в процессе «охоты на ведьм», развязанной примерно в те же годы сенатором Маккарти, по отношению ко многим тогдашним голливудским режиссерам и сценаристам, обвиненным в сочувствии к коммунизму и СССР…
При этом обе эти взаимно враждебных тенденции нашли похожие медийные версии, где подлинные факты в той или иной степени сочетались с идеологической и эстетической фальсификацией.
С последней, например, было связано одинаково далекое от реальности визуальное изображение в советских и западных медиатекстах 1940-х – 1950-х годов XX века бытовых подробностей, касающихся жизни во «вражеских странах». Пожалуй, лишь квази-документальная эстетика изобразительного ряда, свойственная «синема-веритэ» 1960-х, несколько изменила ситуацию (одна из самых ярких иллюстраций новой стилистики – шпионская лента С.Кулиша «Мертвый сезон», вышедшая на экраны в 1968 году).
Справедливости ради, стоит отметить, что даже в эпоху пика «холодной войны» в США появлялись картины с положительными русскими персонажами. Правда, они подавались позитивно в основном тогда, когда влюблялись в американцев и предпочитали жить на Западе. Так в мелодраме
«Мир в его руках» (1952) «графиня Марина Селанова влюбляется в американца и становится счастливой американской домохозяйкой, так как считает, что настоящая любовь и свобода идут рука об руку»
[Strada, Troper, 1997, p.81]. В еще более наглядной форме аналогичная мысль подавалась в мелодраме
«Не дай мне уйти» (1953), где Кларк Гейбл сыграл американского журналиста, аккредитованного в Москве: «влюбленность в красивую и талантливую русскую балерину Марию резко меняет его жизнь. ... Филипп и Мария надеются уехать в Америку, но советские чиновники (всегда под портретом Сталина или Ленина) лгут и в конечном итоге отказывают Марии в выездной визе. ... Однако благодаря украденной форме советского офицера, журналист вывозит Марию через Балтийское море на свободу» [Strada, Troper, 1997, p.80].
В целом «Не дай мне уйти» - яркая иллюстрация стеретипной сюжетной конструкции, когда Голливуд 1950-х, как правило, «в качестве обезвреживания коммунистической идеологии предпочитал любовь и брак» [Strada, Troper, 1997, p.92]. Это касается и таких лент, как «Нет пути назад» (1955), «Анастасия» (1956), «Железная юбка» (1957), «Пилот реактивного самолета» (1957), «Шелковые чулки» (1957) и др. Впрочем, иногда противоядием от «чумы коммунизма» на экране становилась и религия («Виновен в измене», 1950).
Смерть И.В.Сталина (март 1953), переговоры лидеров ведущих стран мира в Женеве (1954-1955), антисталинская речь Н.С.Хрущева на съезде компартии 25 февраля 1956 года привели «биполярный мир» к ситуации так называемой идеологической «оттепели», когда коммунистический режим чуть-чуть приоткрыл «железный занавес» между СССР и Западом. Прямым кинематографическим следствием хрущевских разоблачений сталинского «культа личности» стал американский телефильм Д.Манна «Заговор с целью убить Сталина» (1958), персонажами которого стали Н.Хрущев, Г.Жуков, Г.Маленков, Л.Берия и прочие лидеры тогдашнего советского руководства.
Увы, в октябре-декабре 1956 египетские и венгерские события снова обострили взаимную конфронтацию между СССР и Западным миром…
Западных или советских игровых фильмов на тему египетского конфликта мне не удалось обнаружить, зато венгерская тема 1956 года, когда после подавления советскими войсками народного восстания в Будапеште тысячи венгров эмигрировали на Запад, нашла отражение в «Путешествии» (1959) А.Литвака и
«Будапештском звере» (1958) Х.Джонса. Естественно, что в обоих фильмах венгерские повстанцы и беженцы были показаны как герои или беззащитные жертвы коммунистических репрессий, в том время, как их враги – венгерские и советские коммунисты – ярким воплощением Зла.
Правда, иногда этот негатив был окрашен и некой долей сочувствия. К примеру, в «Путешествии» русский майор в исполнении легендарного Юла Бриннера не только легко разгрызал своими стальными зубами стекло стакана, но и был способен на любовную страсть и тоску…
С 1957 года политические контакты между оплотами «коммунизма» и «империализма» стали опять постепенно налаживаться: несмотря на острые противоречия, две крупнейшие в мире ядерные державы не хотели прямого военного/ядерного столкновения, грозившего уничтожением всей планете… Летом 1957 года в Москве состоялся самый массовый в истории Всемирный Фестиваль молодежи и студентов. Еще сильнее западный интерес к Советскому Союзу подогрел полет в космос первого в мире спутника (4 октября 1957) и вывод на орбиту Земли первого в истории космического корабля с человеком на борту (22 апреля 1961). В значительной степени именно этим успехам в покорении космоса экран конца 1950-х – первой половины 1960-х обязан появлением новой волны научно-фантастических фильмов о далеких планетах…
В 1958 году руководство СССР и США подписали соглашение о культурном обмене, после чего в 1959 году в Москве с ажиотажным успехом прошла американская выставка, пропагандирующая достижения главной державы западного мира в области промышленности, сельского хозяйства, науки, образования и культуры (документалисты США сняли об этом вполне доброжелательный фильм «Открытие в Москве» / Opening in Moscow). В том же 1959 впервые за долгие годы миллионы «невыездных» советских зрителей смогли увидеть новинки западного экрана на Московском международном кинофестивале…
Знаменитый актер и режиссер (кстати, русского происхождения) Питер Устинов отреагировал на «оттепель» забавной комедий «Романов и Джульетта» (1961), где разделенные идеологическими барьерами дети американского и советского дипломатов вопреки всем напастям «холодной войны» страстно влюблялись друг в друга. При этом надо отдать должное авторам фильма: «советские и американские образы – персонаж к персонажу – были в равной мере сбалансированы»
[Strada, Troper, 1997, p. 91]. Но вскоре взаимная конфронтация в очередной раз обострилась из-за сбитого в СССР американского самолета-шпиона (май 1960), разгрома антикастровского десанта на Кубе (1961), создания антизападной Берлинской стены (1961), вспышки Карибского ракетного кризиса (1962), затяжной вьетнамской войны (1964-1975) и «пражской весны» (1968)…
В целом «оттепель» конца 1950-х – первой половины 1960-х годов не столь уж радикально повлияла на ситуацию идеологической конфронтации в медиасфере. Взаимное враждебное изображение России и Запада продолжилось, разве что образ «вероятного противника» стал более правдоподобным.
Политических поводов для идеологической и медийной конфронтации в 1960-х по-прежнему хватало, что не раз отмечалось как западными, так и российскими исследователями
[Jones, 1972; Keen, 1986; Lafeber, 1990; Levering, 1982; Shlapentokh, 1993; Small, 1980; Strada, 1989; Strada and Troper, 1997; Whitfield, 1991; Иванян, 2007; Климонтович, 1990; Ковалов, 2003; Туровская, 2003].
К примеру, тема советско-американского противоборства по поводу Кубы доминировала в фильмах «Подводная лодка» (1961) Ю.Вышинского и «Черная чайка» (1962) Г.Колтунова. Разделенный бетонной стеной Берлин фигурировал в таких разных по жанрам конфронтационных фильмах, как комедия «Раз, два, три» (1961) Б.Уалдера, детектив «Шпион, пришедший с холода» (1965) М.Ритта и драма «Похороны в Берлине» (1966) Г.Хэмилтона.
Взаимная ядерная угроза стала темой для сильных антивоенных фильмов С.Креймера «На берегу» (1961) С.Креймера, «Доктор Стренчлав» (1964) С.Кубрика и «Система безопасности» (1964) С.Люмета. По сюжету последнего технический сбой в управлении американской авиацией, несмотря на прямые телефонные переговоры руководителей США и СССР, приводил к «симметричной» атомной бомбардировке Москвы и Нью-Йорка…
Само собой, каждая из противостоящих сторон выбирала более выгодные для себя факты, обходя стороной «темные пятна». Так, к примеру, венгерские и чехословацкие события, хотя и были отражены в документальных сюжетах советской кино/телехроники (где закадровый текст обвинял «буржуазный Запад» в «контрреволюции» и «оголтелом антисоветизме»), но не нашли отражения в игровом кинематографе СССР.
Зато советское игровое кино охотно обращалось к сюжетам, связанным с Кубой, Африкой, Индокитаем, Чили
(«Черная чайка», «Я – Куба», «Ночь на 14-й параллели», «Ночь над Чили», «Кентавры», «На гранатовых островах», «ТАСС уполномочен заявить…», «Человек, который брал интервью» и др.). То фильмы снимались на материале тем регионов и стран, где можно было погуще обвинить буржуазный мир в империалистической агрессии, колониализме, расизме, подавлении национальных демократических движений и т.п.
Используя западную внешность прибалтийских актеров, советское кино год за годом создавало на экране своеобразный образ враждебной Америки и Западного мира в целом, где в городах «желтого дьявола» торжествует дух алчности, ненависти, расизма, милитаризма, коррупции, разврата, унижения достоинства простых трудящихся и т.п. Иногда в качестве литературной основы для такого рода фильмов выбирались романы классиков американского критического реализма («Американская трагедия», «Богач, бедняк»). Но чаще разоблачительные сюжеты сочинялись просто на ходу («Парижская мелодрама», «Европейская история», «Медовый месяц в Америке»). Главная задача была в том, чтобы внушить советским зрителям мысль об ужасах и пороках неотвратимо загнивающего Запада.
С другой стороны на Западе – с точностью до наоборот - десятилетиями лепился образ враждебной, агрессивной, вооруженной до зубов, но во всем остальном экономически отсталой тоталитарной России – с холодными заснеженными просторами, нищим населением, которое жестоко угнетают злобные и коварные коммунисты, погрязшие в коррупции и разврате. Главная задача была аналогичной - внушить западным зрителям мысль об ужасах и пороках неотвратимо загнивающего СССР.
Надо сказать, что западное кино времен «холодной войны» не слишком часто отваживалось, чтобы действие фильмов целиком разворачивалось на российских просторах после 1917 года (чаще экранизировались романы Л.Толстого или Ф.Достоевского). И это несмотря на то, что мелодраматизированная Д.Лином экранная версия запрещенного в СССР романа Б.Пастернака «Доктор Живаго» стала одним из кассовых хитов 1965-1966 годов.
Причина довольно редкого обращения западных кинематографистов к советской бытовой тематике проста – они отчетливо понимали, что им практически невозможно адекватно отразить реальные подробности жизни в СССР. Во-первых, из-за весьма приблизительного представления о том, как именно жили советские люди (что почти всегда можно заметить в любом «конфронтационном» медиатексте с эпизодами, действие которых разворачивается на территории Советского Союза). Во-вторых, из-за невозможности получить разрешение съемок на советской натуре вследствие строгого контроля КГБ за действиями и перемещениями любых иностранцев, приезжавших в СССР.
Отсюда понятно почему, если даже действие западных фильмов происходило в Москве, русские персонажи, как правило, были на втором/третьем плане, уступая место англоязычным шпионам или визитерам («Огненный лис», «Парк Горького»).
Впрочем, были и исключения: гротескный фарс о закате власти Сталина «Красный монарх» (1983), психологическая драма «Сахаров» (1985) и, на мой взгляд, малоудачные в художественном отношении западные экранизации романов А.Солженицына «Один день из жизни Ивана Денисовича» (1970) и «В круге первом» (1973, 1991). Их дополняли еще несколько разоблачительных лент о советских концлагерях.
Кроме экранизаций произведений Б.Пастернака и А.Солженицына свою роль в идеологической конфронтации сыграли и европейские киноадаптации романов М.Булгакова «Мастер и Маргарита» (1972), «Собачье сердце» (1976) и «Роковые яйца» (1977). Антисоветские мотивы в них были наступательно очевидны. Конечно, итальянские киноверсии гениальной булгаковской прозы грешили приблизительностью фактуры (по понятным причинам авторы не имели возможности снимать свои фильмы в СССР), однако у каждой из них были свои достоинства: ярко сыгранная Уго Тоньяцци роль Мастера и стилизованная под русские мотивы мелодичная музыка Эннио Морриконе («Мастер и Маргарита» А.Петровича); ироничная интеллектуальность Макса фон Сюдова в роли профессора Преображенского («Собачье сердце» А.Латтуады)…
Важное место в общем потоке взаимных обвинений/разоблачений занимала, как обычно, шпионская тематика. В СССР заметными образцами такого рода были «Секретная миссия», «Опасные тропы», «Следы на снегу», «Тень у пирса», «Над Тисой», «Операция «Кобра», «Случай с ефрейтором Кочетковым», «Тайна двух океанов», «Человек меняет кожу», «Пограничная тишина», «Игра без ничьей», «Черный бизнес», «Человек без паспорта», «Развязка», «Акваланги на дне», «Пятьдесят на пятьдесят», «Мертвый сезон», «Ошибка резидента» и многие др.
Одним из распространенных советских сюжетных стереотипов шпионской темы стала фабула о талантливых ученых и изобретателях, сделавших важное научной открытие, которое стремятся выведать/украсть/купить западные спецслужбы («Выстрел в тумане», «След в океане», «Гиперболоид инженера Гарина», «Крах инженера Гарина», «Меченый атом», «Рокировка в длинную сторону», «Смерть на взлете» и др.).
К примеру, в
«Выстреле в тумане» (1963) А.Бобровского и А.Серого сотрудник КГБ неотступно сопровождает (на работе, в командировке, на охоте, в домашней обстановке и т.д.) засекреченного советского физика, за военными разработками которого охотится западная разведка. Самое любопытное, что это постоянное наблюдение воспринимается физиком как должное, ведь вокруг – коварные шпионы-дипломаты и окопавшиеся под видом мирных парикмахеров резиденты вражеских разведок… В фильме
«След в океане» (1964) О.Николаевского советские ученые изобретают газовую смесь, позволяющую аквалангистам опускаться на большую глубину, но и здесь вражеский шпион тут как тут – хладнокровно выстраивает свои коварные планы…
Но, впрочем, чаще шпионские сюжеты обходились без ученых. Скажем, в «Игре без правил» (1965) Я.Лапшина (по пьесе Л.Шейнина) «американцы жадно тянутся к нашим секретам… не гнушаются сотрудничеством с фашистами и допрашивают наших доблестных комсомольцев совершенно гестаповскими методами, а, главное, они насильно удерживают в своей оккупационной зоне советских людей…» [Стишова, Сиривля, 2003, с.13]. В «Случае с ефрейтором Кочетковым» (1955) рядом с советской военной частью окопалось целое шпионское гнездо… В детективе «Над Тисой» (1958) матерый (по всему видно – американский) шпион и убийца готовит взрыв моста в Закарпатье… Словом, раньше «был враг, понятный и четкий – фашисты. Теперь на место фашистов встали американцы. Без образа врага, более или менее жестко очерченного, тоталитарное государство существовать не может, даже в самые «вегетарианские», оттепельные времена» [Стишова, Сиривля, 2003, с.13].
Аналогичные схемы содержались и в западных медиатекстах времен идеологической конфронтации: помимо отрицательных персонажей-нацистов там все чаще появлялись коварные советские/социалистические шпионы и террористы («Из России с любовью», «Топаз», «Кремлевское письмо», «Посольство», «Макинтош», «Змей», «Приз», «Телефон» и др.).
В детективе «Приз» (1963) М.Робсона коварные спецслужбы ГДР (не иначе, как с подачи своих советских коллег) разрабатывают антизападную пропагандистскую операцию подмены нобелевского лауреата его завербованным братом-близнецом (см. аналогичный сюжетный поворот подмены «хорошего» брата «плохим» в советской «Тайне двух океанов»), чтобы тот заявил во время торжественной церемонии вручения премий в Стокгольме, что разочарован в Западном мире и эмигрирует в социалистическую Германию…
А вот, например, как выглядит фабула французского триллера
«Змей» (1973) А.Вернея: «полковник Власов убегает на Запад, разыгрывает роль перебежчика – с заданием помочь советской разведке уничтожить руководящие кадры военных и разведывательных аппаратов НАТО. Американцы относятся к беглецу настороженно. Доверие он приобретает после достоверного объяснения поступка Власова, предложенного коллегам заместителем начальника американской разведки (который, по сюжету тоже оказывается советским резидентом): тот предъявляет фотографии – парад на Красной площади, на боковой трибуне Мавзолея – полковник Власов»
[Долматовская, 1976, с.221]…
В советском кино шпионские сюжеты настойчиво внедрялась в тематические планы выпуска фильмов для детей. Так экранные пионеры не просто хорошо учились и отдыхали, но и попутно разоблачали или помогали поймать матерых вражеских агентов («Юнга со шхуны «Колумб», «Акваланги на дне» и др.). Чуть забегая вперед, отметим, что и в американских фильмах в борьбу с советскими врагами нередко вступали именно тинэйджеры, по своим повадкам похожие на рассвирепевших бойскаутов («Красный рассвет»).
В 1950-х - 1980-х годах антизападные тенденции в советских медиатекстах отчетливо приобрели «военно-морскую окраску… Военное противостояние на море – едва ли не единственная сфера, где у нас с американцами существовал некий паритет, где мы выступали на равных. У них корабли – у нас корабли, у них радары – у нас радары, у них ракеты – у нас ракеты… Есть все основания, чтобы затеять на экране небольшую войнушку, где наши, понятное дело, победят. Тут тебе и развлечение, и патриотическое воспитание, и мобилизационный импульс: мол, вы спокойно живете, работаете, дышите воздухом, а мир между тем висит на волоске, враг безжалостен и коварен и только и мечтает, чтобы затеять третью мировую войну… Для массового зрителя предпочтительнее было снимать картины, где образ врага рисовался без лишних подробностей вражеского буржуазного быта. Ведь соревнование в области, так сказать, «легкой промышленности» мы к тому времени уже проиграли, и всякие западные шмотки, напитки, автомобили и прочее вызывали у населения нездоровый ажиотаж. С демонстрацией предметов заграничного потребления на экране нужно было быть крайне осторожным. И военно-морские коллизии в этом смысле изображать было как-то спокойнее…»
[Стишова, Сиривля, 2003, с.13-15].
Вот далеко не полный ряд морских конфронтаций с советской стороны: «В мирные дни» (1950) В.Брауна, «Тайна двух океанов» (1956) Г.Пипинашвили, «Голубая стрела» (1958) Л.Эстрина, «Подводная лодка» (1961) Ю.Вышинского, «Нейтральные воды» (1969) В.Беренштейна, «Визит вежливости» (1972) Ю.Райзмана, «Право на выстрел» (1981) В.Живолуба, «Случай в квадрате 36-80» (1982) и «Одиночное плавание» (1985) М.Туманишвили, «Пираты XX века» (1979), «Тайны мадам Вонг» (1986) и «Гангстеры в океане» (1991) С.Пучиняна…
Похожая «морская» схема, правда, в меньшем количестве и с обратным идеологическим наполнением, использовалась и на Западе (самый яркий пример – «Погоня за «Красным Октябрем» Дж.МакТирнана). Одно из немногих исключений из этого ряда – пацифистская комедия Н.Джуиссона «Русские идут! Русские идут!» (1966), где в общем-то придурковатые русские подводники, севшие на мель у берегов Калифорнии, были показаны с относительной симпатией… «Снятая буквально через несколько лет после травматического кубинского ракетного кризиса 1962 года, комедия «Русские идут…» имела важное значение: человечество должно прийти в себя и сотрудничать, чтобы выжить и процветать»
[Strada, Troper, 1997, p.97].
Естественно, противоборство на воде как советскими, так и западными кинематографистами дополнялось сюжетами о военной конфронтации в воздухе («Ракетная атака на США», «Твое мирное небо», «Огненный лис», «Мы обвиняем» и др.) и на земле («Военнопленный», «Америка», «Третья мировая война», «Рембо-3»).
Конечно, далеко не все советские медиатексты, затрагивающие тему «идеологической конфронтации», были откровенно схематичны. Вспомним, хотя бы вполне политкорректный «Мертвый сезон» (1968) С.Кулиша, показавший советского и западного разведчиков как достойных противников (знаменитая сцена обмена «резидентами» на границе). С неожиданной для ретроградского взгляда симпатией был обрисован образ западного шпиона в детективе В.Дормана «Ошибка резидента» (1968), правда, лишь потому, что в следующих сериях он уже работал на советскую разведку…
Да и западный экран нередко стремился уйти от прямолинейных идеологических клише. В фильме Э.Манна и Л.Харви «Денди в желе» (1968) советский шпион выглядел едва ли не притягательно – харизматичный, мужественный, мечтающий вернуться на родину. Но все это было задумано авторами для того, чтобы в финале картины показать эффектную сцену, где преданный своим московским начальством разведчик гибнет в перестрелке…
К зарубежным экранизациям прозы А.Солженицына («В круге первом», «Один день Ивана Денисовича») можно предъявить немало художественных и фактографических претензий, однако сделаны они были с той мерой достоверности, которая была доступна западным кинематографистам, разумеется, не имевшим в те годы возможности снимать такого рода «русские сюжеты» в Советском Союзе. Так что сегодня вряд ли можно согласиться с пафосными, но по большому счету бездоказательными критическими пассажами Г.Е.Долматовской о фильме Ф.Шеффнера «Николай и Александра» (1971), вполне правдоподобно рассказавшем драматическую историю расстрела коммунистами беззащитной семьи Николая Второго летом 1918 года: «Большевистское подполье, возглавляемое Лениным, рисуется в фильме как организация злобных и подозрительных террористов. Но даже такое карикатурное изображение вождя, якобы одержимого идеей террора и шпиономанией, кажется режиссеру недостаточным. Он дорисовывает новые штрихи к своему клеветническому портрету, начертанному с заведомо злобными, оголтело антисоветскими намерениями. Вместо действительного исторического лица на экране возникает мрачный образ, не имеющий ничего общего с подлинной реальностью. Авторы фильма настолько далеко зашли на стезе антикоммунизма, что не брезгуют самыми мерзкими, дурно пахнущими приемами, нападая на святыни революционной истории пролетариата»
[Долматовская, 1976, с.223].
Вместе с тем, среди западных политических драм времен идеологического противостояния можно обнаружить и подлинные шедевры, в которых нет и намека на политическую карикатуру («Убийство Троцкого» Дж.Лоузи, «1984» М.Редфорда).
Очередной спад взаимной политической конфронтации был связан с заключением в июне 1973 года официального соглашения между СССР и США о контактах, обменах и сотрудничестве, за которым последовал широко разрекламированный советско-американский космический проект «Союз-Аполлон» (1974). Идеологическая «разрядка» продлилась практически до конца 1979 года, когда Советский Союз начал затяжную войну в Афганистане…
В очередной серии «бондианы» - «Шпион, который меня любил» (1977) появился, пожалуй, самый яркий эпизод, отразивший смягчение взаимной конфронтации 1970-х годов: целуя Бонда, советская шпионка Аня произносит многозначительную фразу: «Русский агент влюбляется в британского агента – вот она, настоящая разрядка!».
Кстати, жертвами этой «разрядки» стали архаично сконструированные фильмы «Всегда начеку» (1972) Е.Дзигана и
«Скворец и Лира» (1974) Г.Александрова. Первый был запрещен советской цензурой из-за почти карикатурного показа «железного потока» западных шпионов и диверсантов, стремящихся пробраться через советскую «границу на замке». Второй - из-за несвоевременно примененной стереотипной схемы о том, что врагов-нацистов после 1945 года заменили столь же мерзкие враги-американцы (впрочем, по поводу запрета «Скворца и Лира» есть и другие, менее политизированные версии). Стереотип, восторженно встреченный сталинским режимом в фильме того же Г.Александрова «Встреча на Эльбе» (1946), в 1974 году показался брежневскому Кремлю устаревшим и «неполиткорректным»…
Вместе с тем, невзирая на короткое политическое «перемирие» середины 1970-х годов, между Советским Союзом и Западом практически до самой «перестройки» сохранялся сильный накал идеологической борьбы, достигший апофеоза в конце советской «эпохи застоя» (первая половина 80-х). Даже на пике «идеологической разрядки», противоборствующие стороны не забывали о взаимных нападках. Например, в русле тематики шпионажа и терроризма.
Для иллюстрации воспользуемся, к примеру, точным пересказом фабулы триллера Д.Сигела
«Телефон» (1977), сделанным Е.Н.Карцевой: «Зрителю показывают, как в разных концах Соединенных Штатов начинают раздаваться взрывы. Причем, на воздух взлетают объекты, давно утратившие стратегическое значение. Американская разведка несказанно удивляется этому, хотя, конечно, не сомневается, что взрывы – дело рук красных. Подоплека же их такова. В разгар «холодной войны», в конце 40-х годов, советская сторона внедрила вблизи важнейших военных баз, промышленных комплексов и научно-исследовательских центров США сто тридцать шесть агентов. Они были загипнотизированы и совершенно не подозревали о предстоящей миссии. Однако стоило им услышать некое кодовое слово, произнесенное по телефону, как под влиянием давнего гипноза они приступали к выполнению операции. После этого каждый агент – так было запрограммировано – кончал жизнь самоубийством. Некий сотрудник советской разведки Далчинский, знавший о телефонизированном терроризме и не согласный с политикой разрядки, устроил себе командировку в США, где и начал осуществлять кошмарный план. Американцы сообщили о своих предположениях советскому правительству, которое не знало об этой давней операции. Тогда в Америку был послан опытный Григорий Борзов, отлитый по модели Джеймса Бонда. Работая рука об руку с красавицей Барбарой, двойным агентом, бравый Борзов нейтрализовал Далчинского и в самый последний момент предотвратил наиболее катастрофические взрывы. Совершив этот подвиг, он не вернулся в Москву, а остался с Барбарой»
[Карцева, 1987, с.199-200].
Впрочем, в целом в эпоху «разрядки» Запад не очень часто обращался к российской теме: с 1975 по 1978 год ежегодно снималось от 6 до 9 фильмов «россики» (из них американских всего лишь от 1 до 4).
«Почему Голливуд 1970-х не проявил большого энтузиазма в отношении сотрудничества с Советским Союзом? Почему портреты русских киноперсонажей в эпоху разрядки не стали более позитивными? Несколько факторов помогают объяснить ситуацию. Первый, как говорится, - с глаз долой, из сердца вон. В ситуации пика «холодной войны» источники угрозы для Америки казались внешним, а именно: Советы и их ядерное оружие. ... В 1970-х началась политика разрядки, поддержка контроля над вооружениями, сокращение ядерных рисков. В результате страхи перед атомной войной отступили. ... Вторая причина для амбивалетной голливудской реакции на эпоху разрядки стал ее неоднозначный характер»
[Strada, Troper, 1997, p.143-144].
Если
«Доктор Живаго» (1965) Д.Лина был, бесспорно, самым «знаковым» произведением западной «россики» 1960-х, то
«Красные» (1981) У.Битти, как «своего рода американский ответ на энтузиазм русской революционной эпохи»
[Strada, Troper, 1997, p.166] стал одним из наиболее заметных западных фильмов о России в 1980-х.
Драма У.Битти рассказывала о российских событиях 1917-1918 годов, о большевистском перевороте, увиденном глазами американского журналиста Джона Рида. При этом режиссер старемился избежать карикатурности, гротеска и идеологической предвзятости. Его позиция была, скорее, нейтрально-сочувственной, чем обличительной.
«Красные» были выдвинуты на 12 двенадцать «оскарных» номинаций. В итоге заветные статуэтки получили режиссер, оператор и актриса второго плана. Американские кинокритики включили «Красных» в пятерку «самых качественных» в художественном отношении голливудских фильмов года.
Казалось бы, «Красных» и их звезд (в главных ролях - У.Битти, Дж.Николсон и др.) ждал кассовый триумф. Однако за первый год демонстрации (с 4 декабря 1981 года) фильм У.Битти заработал в прокате 40 миллионов долларов (не очень впечатляющий результат при исходной стоимости ленты в $ 32 миллиона) и «занял всего лишь 197 место по кассовым сборам среди всех лент 1980-х годов»
[Strada, Troper, 1997, p.167]. По-видимому, это объясняется тем, что «Красные» были поставлены вопреки стеретипам облегченного представления Запада о России, лишены «живаговского» мелодраматизма и развлекательной направленности как таковой…
В связи с вторжением советских войск в Афганистан (1979) и рейгановской концепцией «звездных войн» идеологическая конфронтация между Советским Союзом и Западом резко усилилась
[Strada & Troper, 1997, p.154; Golovskoy, 1987, p.269]. Как результат - в первой половине 1980-х практически один к одному были реанимированы стереотипы послевоенного пика «холодной войны».
Так в кровавом боевике «Вторжение в США» (1985) жестокость террориста-психопата Михаила Ростова вполне адекватна пыткам полковника КГБ Никиты Бирошилова из давнего
«Военнопленного» (1954) [Strada & Troper, 1997, p. viii]. Во «Вторжение в США» русские террористы взрывают дома, убивают невинных мужчин, женщин и детей. «Действительно, никогда еще до той поры голливудские фильмы не изображали такую степень советской агрессии» [Strada, Troper, 1997, p.146].
В подобном же духе был поставлен боевик «Красный рассвет» (1984), где «агрессия русских показана как моральный эквивалент вторжения нацистов» [Strada, Troper, 1997, p.160]. Не даром председатель американской Национальной коалиции по вопросам телевизионного насилия выделил «Красная рассвет» как чемпиона по сценам экранного насилия: «134 акта насилия в час» [цит. по: Strada, Troper, 1997, p.160].
Ничуть не меньшим русофобским пафосом был начинен боевик
«Рембо III», повествующий о зверствах советских войск в Афганистане (чего стоил один образ садиста полковника Зайцева, в котором были собраны все стереотипы отрицательных персонажей эпохи «холодной войны»). «Рембо III» стоил $ 63 млн. и стал самым дорогим фильмом 1988 года. Но, к огорчению голливудских продюсеров, это была плохая инвестиция: фильм вышел на экраны в разгар советской перестройки и новой «разрядки», то есть опоздал с выходом на экран как минимум на три года. К этому времени еще недавно антисоветские настроения американских зрителей существенно изменились, и картина провалилась в прокате: ее сборы составили всего $ 28,5 млн.
[Strada, Troper, 1997, p.182].
Помимо традиционных обвинений во взаимном шпионаже и агрессии («Парк Горького» М.Эптида, «Солдат» Дж.Гликенхауза, «Вторжение в США», Дж.Зито, «Третья мировая война» Д.Грина, «Красный рассвет» Дж.Милиуса, «Секретное оружие» Д.Тейлора, «Рембо-II» Дж.Косматоса, «Америка» Д.Врая, «Право на выстрел», «Приказано взять живым» и «Бармен из «Золотого якоря» В.Живолуба, «Мы обвиняем» Т.Левчука, «На гранатовых островах» и «Тайна виллы «Грета» Т.Лисициан, «Тревожный вылет» В.Чеботарева, «Одиночное плавание» М.Туманишвили, «Перехват» С.Тарасова и др.) возникли более изощренные идеологические пикировки.
К примеру, в 1985 году в СССР и в США на экраны вышли два фильма, связанные с судьбой знаменитых артистов-«невозвращенцев». С.Микаэлян в
«Рейсе 222» попытался обыграть подлинную историю побега на Запад звезды советского балета Александра Годунова: по сюжету фильма американцы насильно пытаются удержать в США патриотично настроенную жену невозвращенца, которая во что бы то ни стало стремится улететь в Москву. А Т.Хэкфорд в «Белых ночах», опираясь на имидж другой балетной звезды – Михаила Барышникова (в те годы уже блиставшего на сценах Бродвея), конструирует симметричную ситуацию. Его персонаж – сбежавший в США ведущий солист питерского балета – оказывается в плену КГБ из-за неполадок американского пассажирского самолета, совершившего вынужденную посадку на территории СССР. Однако, несмотря на щедрые посулы советских спецслужб, он не идет на компромиссы, и вскоре ему удается вновь сбежать на Запад…
Тема вынужденной эмиграции, на сей раз из-за антисемитизма, была подхвачена «Золотыми улицами» (1986) Дж.Рота. По сюжету этой ленты советские власти не желают, чтобы еврей Нейман представлял Советский Союз на очередных Олимпийских играх. В ответ озлобленный спортсмен эмигрирует в Соединенные Штаты…
В отличие от американского кино 1970-х, игнорировавшего «скучных» русских персонажей, в 1980-х Голливуд выпустил свыше 80-ти фильмов «россики». «Почти все из них показывали негативные стороны русской и советской системы, пугая зрителей портретами злого советского врага, которого надлежало уничтожить. … Все фильмы подобного сорта начинались с того, что советский коммунизм является злом. Вроде бы ничего нового. Однако в подтексте утверждалось, что мирное сосуществование невозможно, и усилия, направленные на переговоры с врагами свободы не имеют смысла»
[Strada, Troper, 1997, p.154-155].
Помимо шпионско-приключенческого жанра, негативный имидж Запада активно культивировался советским кино и в фантастических лентах, где научные открытия становились достоянием жестоких маньяков, желающих стать властелинами мира («Гиперболоид инженера Гарина», «Продавец воздуха», «Завещание профессора Доуэля»). Американский фантастический экран отвечал на это лентами о захвате Аляски советскими войсками («Америка») или аллегориями на тему инопланетных вторжений… Британский – дважды сделанной экранизацией антикоммунистического шедевра Дж.Оруэлла «1984»…
Особую ветвь в этой теме занимали мрачные фантастические (кстати, часто пацифистские) фильмы о последствиях атомной войны («Пятеро», «На берегу», «Избранные выжившие», «Письма мертвого человека» и др.). Эти «предупреждения из будущего» — кошмары безумия атомных и космических войн, крушения человеческой цивилизации — стали вполне привычными на экранах «биполярного мира». Это фантастика особого рода, она и сегодня, когда на планете множество так называемых «локальных конфликтов», пугает своей актуальностью.
В 1985 году Голливуд выпустил дорогостоящий блокбастер «2010», по сюжету которого американцы уничтожали советский корабль, а Кремль мстил, «ассиметрично» взрывая американский военный спутник. Несмотря на весь этот негатив, «2010» как бы предвосхищал переход от жесткой русофобии к новому американо-советского сотрудничеству [Strada, Troper, 1997, p.168].
Медийная «холодная война», так или иначе, продолжилась практически до конца 1980-х, когда в связи с так называемой советской «перестройкой» между Западом и СССР все чаще стала проявляться взаимная доброжелательная тенденция («Красная жара», «Русские», «Супермен-IV», «Американский шпион»)… Так помимо прежних идеологических схем «советская система против русского народа», или «плохая система - хорошие люди» все чаще стали сниматься «позитивные фильмы о выгодах взаимной демилитаризации и советско-американского сотрудничества» [Strada, Troper, 1997, p.196].
К примеру, Супермен (1987) избавлял советское руководство от взрыва вражейской ракеты; добродушный русский матрос Михаил Александрович Пушкин (Миша) из «Русских» (1987) на поверку оказывался отличным другам американцев. В
«Красной жаре» (1988) легендарный А.Шварценеггер со всей харизмой терминатора преставал в роли русского милиционера: прилетев в США, он лихо наводил страх на нью-йоркских бандитов. А в «Красном короле, белом рыцаре» (1989) американский агент спасал президента Михаила Горбачева от покушения и переворота со стороны реакционных элементов Советского Союза, в том числе КГБ: «новый дух сотрудничества должен был быть защищен» [Strada, Troper, 1997, p.190-191].
Кстати, «Красная жара» стала первой западной лентой частично снятой в настоящей Москве (помните, насколько неправдоподобно выглядит в «Кремлевском письме» российская столица, снятая Дж.Хьюстоном в Хельсинки?).
Одной из самый ярких комедий эпохи этого периода были
«Шпионы как мы» (1985) Дж.Лэндиса - смешная пародия на шпионские боевики. Герои фильма (блестящий дуэт Д.Эйкройда и Ч.Чейза) по заданию американской разведки оказываются в Сибири, где вместе с местными ракетчицами предотвращают ядерную войну, а затем занимаются любовью в целях укрепления советско-американских отношений. Высмеивая штампы фильмов о разведке и бондиане, Джон Лэндис превратил картину в капустник для друзей и знакомых кинематографистов, не забывая, конечно, о киноманах. Так, в маленьких ролях агрессивных русских пограничников «ради хохмы» снялись знаменитый режиссер Коста Гаврас («Дзета», Признание», «Пропавший без вести») и тогдашний ведущий музыкальных передач русской службы Би-Би-Си Сева Новгородцев.
Не менее забавна и фабула другой американской комедии тех лет - «Влюбленные молодые медсестры» (1987). Это пародия на «больничные» мыльные оперы: чтобы украсть в Америке банк спермы (включающий пожертвования от П.Пикассо, Д.Макартура и Э.Хемингуэя), агент КГБ Домбровская выдает себя за американскую медсестру...
В итоге трудно не согласиться с выводами М.Страды и Х.Тропера – лишь немногие из «конфронтационных» лент – «драгоценные камни, которые выдержали испытание временем и продолжают блистать, но большинство из этих фильмов сегодня кажутся банальными, даже бессмысленными и быстро исчезает из памяти»
[Strada, Troper, 1997, p.ix]. Любопытно, что тяжеловесные и пафосные «конфронтационные» драмы 1946-1986 годов сейчас, как правило, выглядят некими ископаемыми, в то время как менее амбициозные, открыто приключенческие («Тайна двух океанов», «Из России с любовью») или комедийные ленты («Шелковые чулки», «Москва на Гудзоне») демонстрируют удивительную «живучесть» в «рейтинговых» телевизионных сетках.
Вместе с тем, так или иначе, фильмы эпохи «холодной войны» вполне поддаются контент-анализу и могут быть систематизированы, согласно доминирующим стереотипам (по проблематике, этике, идеологическим посылам, сюжетным схемам, типам персонажей, приемам изображения и т.д.).
2.3.Кинематографические стереотипы эпохи «идеологической конфронтации»(1946-1991)
Сравнительный анализ сюжетных схем, персонажей и идеологии западных и советских фильмов эпохи «идеологической конфронтации» 1946-1991 годов приводит к выводу о существенном сходстве их медийных стереотипов.
Контент-анализ медиатекстов «холодной войны» позволяет представить их основные сюжетные схемы следующим образом:
- шпионы проникают на территорию СССР/США/Западной страны, чтобы совершить диверсии и/или выведать военные секреты («Секретная миссия», «Голубая стрела», «Тайна двух океанов», «Над Тисой», «Тень у пирса», «Случай с ефрейтором Кочетковым», «Выстрел в тумане», «Меченый атом», «Приз», «Тринадцать испуганных девочек», «Мы обвиняем», «Из России с любовью», «Топаз», «Денди в желе», «Змей», «Пришедший с холода», «Приз», «Огненный лис», «Вторжение в США», «Красная икра», «Четвертый протокол», «Нет выхода» и др.);
- противник готовит тайный удар по территории СССР/США/Западного мира, создавая для этого секретные базы с ядерным оружием («Тайна двух океанов», «Третья мировая война», «Секретное оружие», «Ракетная атака на США» и др.). Вариант: высадка оккупационных сил («Черная чайка», «Красный рассвет», «Америка» и др.), противники обмениваются ядерными ударами, уничтожающими США, а то и всю планету («Пятеро», «На берегу», «Избранные выжившие», «Нити», «Система безопасности», «День после» и др.);
- бесчеловечный псевдодемократический или тоталитарный режим угнетает свой собственный народ (СССР/США/иной страны), нередко проводя над ним рискованные медицинские эксперименты или бросая в концлагеря («Заговор обреченных», «Серебристая пыль», «В круге первом», «Один день из жизни Ивана Денисовича», «1984», «Гулаг», «Прощай, Москва», «Человек, который брал интервью» и др.);
- диссиденты покидают/пытаются покинуть страну, где, по их мнению, душат демократию и свободу личности («Железный занавес», «Красный Дунай», «Путешествие», «Бегство к солнцу», «Вид на жительство», «Заблудшие», «Безумная диагональ», «Москва на Гудзоне», «Рейс 222», «Белые ночи» и др.);
- обычные советские/западные жители объясняют введенным в заблуждение пропагандой советским/западным военным/гражданским визитерам, что СССР/США/Западная страна – оплот дружбы, процветания и мира («Ниночка», «Шелковые чулки», «Русские сувенир», «Леон Гаррос ищет друга», «Русские идут…», «Русские» и др.);
-на пути влюбленной пары возникают препятствия, связанные с идеологической конфронтацией между СССР и Западным миром («Шелковые чулки», «Железная юбка», «Уйти навсегда», «Раз, два три», «Перед наступлением зимы», «Золотой миг», «Ковбой и балерина» и др.).
Последний яркий кинопик «холодной войны» пришелся на первую половину 1980-х годов, когда «русские, как часть монолитной и агрессивной системы, изображались как продукты их среды - злонамеренные, сильнодействующие, активно революционные во всем мире. В начале 1980-х любовь и брак практически исчезли из американских фильмов на русскую тему, равно как и религия. Почти все русские персонажи показывались однозначными носителями насилия: это были мужчины, которые ненавидели и обычно угрожали американскому образу жизни. В этом сообщении было непрекращающееся и кристально чистое требование к защитникам свободы оставаться бдительными по отношению к злой советской системе и ее зловещим представителям» [Strada, Troper, 1997, P.170].
Впрочем, подробный киноведческий анализ советских/российских фильмов на американскую и западную тему не входит в задачи этого исследования, поэтому сосредоточимся на выявлении стереотипов в рамках тематики идеологической конфронтации в западных игровых фильмах разных жанров.
Структура стереотипов западных «конфронтационных» фильмов драматического жанра
исторический период, место действия: любой отрезок времени с 1917 по 1991 годы, СССР, США, другие страны.
обстановка, предметы быта: скромные жилища и предметы быта советских персонажей, роскошные жилища и предметы быта западных персонажей.
приемы изображения действительности: квазиреалистичное или условно-гротескное изображение жизни людей во «враждебных государствах».
Пример западного варианта изображения событий: Нью-Йорк - современный яркий мегаполис, уютный и комфортный, демократичный и динамичный плавильный котел национальностей и культур. А по ту сторону океана - Москва - темный, мрачный город с длинными очередями у входов в магазины и военными патрулями на улицах.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: положительные персонажи – носители демократических идей; отрицательные персонажи – носители антигуманных, милитаристских идей. Персонажей разделяет не только социальный, но и материальный статус. Советские персонажи нередко показаны грубыми и жестокими фанатиками с примитивной лексикой, вечно нахмуренными лицами, активной жестикуляцией и неприятными голосовыми тембрами.
существенное изменение в жизни персонажей: отрицательные персонажи собираются воплотить в жизнь свои антигуманные идеи.
возникшая проблема: жизнь положительных персонажей, как, впрочем, и жизнь целых народов/стран под угрозой.
поиски решения проблемы: борьба положительных персонажей с отрицательными.
решение проблемы: уничтожение/арест отрицательных персонажей, возвращение к мирной жизни.
Будапештский зверь / The Beast of Budapest. США, 1958. Режиссер Х.Джонс.
исторический период, место действия: Венгрия, октябрь 1956.
обстановка, предметы быта: полуразрушенные улицы и дома Будапешта, застенки венгерских коммунистических спецслужб; скромный быт простых венгров, роскошные интерьеры квартиры начальника будапештской полиции.
приемы изображения действительности: квазиреалистичные, сохраняющие видимость документальной объективности за счет вкрапления подлинной кинохроники 1956 года.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: венгерские повстанцы и сотрудники спецслужб венгерского коммунистического режима. Последние показаны грубыми, жестокими и циничными садистами с примитивной лексикой и неприятными голосами и внешностью; венгерские повстанцы, напротив, изображены сугубо позитивно – это целеустремленные, сильные, честные борцы за мир и демократию, с деловой лексикой, скупыми жестами и мимикой; даже те из них, кто поначалу стремился сохранить нейтралитет, и даже был в плену у коммунистической пропаганды, очень скоро понимают, что к чему и переходят на сторону восставшего народа.
существенное изменение в жизни персонажей: венгерские коммунисты в союзе с советскими войсками стремятся подавить восстание венгерских рабочих и студентов и арестовать/убить их лидеров.
возникшая проблема: жизнь положительных персонажей – венгерских повстанцев - под угрозой.
поиски решения проблемы: лидеры венгерских повстанцев вступает в борьбу с коммунистическими спецслужбами.
решение проблемы: положительные персонажи в кровавой борьбе убивают начальника будапештской полиции, который, опасаясь народно гнева, хотел было сбежать в Австрию (правда в финале закадровый голос сообщает, что, к сожалению, победа демократических сил, оказалась временной, и вскоре советским войскам удалось восстановить коммунистический режим в Венгрии).
Сахаров / Sakharov. Великобритания, 1985. Режиссер Дж.Голд.
исторический период, место действия: СССР середины 1980-х годов.
обстановка, предметы быта: скудный советский быт, убогая обстановка.
приемы изображения действительности: квазиреалистичные, сохраняющие видимость документальной объективности, элементы явного гротеска.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: выдающийся ученый-демократ и коварные агенты КГБ. Их разделяет контрастный идеологический статус. Академик Сахаров обаятелен, умен, честен, скромно одет, у него правильная литературная речь, мимика и жесты соответствуют канонам интеллектуала. Агенты КГБ лживы, циничны, одержимы идеями подавления демократии и свободомыслия… Их лексика примитивна, жесты и мимика вульгарны.
существенное изменение в жизни персонажей: КГБ организует слежку за выдающимся ученым-демократом, а потом высылает его из Москвы в закрытый для иностранцев мрачный и грязный провинциальный город.
возникшая проблема: жизнь выдающегося ученого и его семьи под угрозой.
поиски решения проблемы: демократическая западная общественность выступает в защиту ученого-демократа.
решение проблемы: воодушевленный поддержкой Западного мира, ученый верит в близкую победу демократических сил.
В погоне за «Красным Октябрем» / The Heat for Red October. США, 1990. Режиссер Дж. МакТирнан.
исторический период, место действия: рубеж 90-х годов XX века, океан.
обстановка, предметы быта: служебные отсеки и каюты подводной лодки.
приемы изображения действительности: реалистичные, сохраняющие видимость документальной объективности.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: командир советской подлодки «Красный Октябрь» и его американские коллеги. Их поначалу разделяет контрастный идеологический статус. Командир обаятелен, умен, честен, одет в военную форму, у него правильная (English, of course) речь, мимика и жесты соответствуют канонам военного моряка. Его американские коллеги также одеты в военную форму, это деловитые профессионалы.
существенное изменение в жизни персонажей: американские военные хотят склонить советского командира перейти на их сторону.
возникшая проблема: колебания советского командира подлодки между военной присягой и соблазном передать новейшую подлодку американским коллегам.
поиски решения проблемы: командир подлодки пытается проанализировать ситуацию.
решение проблемы: победа демократических сил – командир советской подлодки переходит на сторону американского флота.
Структура стереотипов западных «конфронтационных» фильмов жанра триллера или детектива
исторический период, место действия: любой отрезок времени с 1917 по 1991 годы, СССР, США, другие страны.
обстановка, предметы быта: скромные жилища и предметы быта советских персонажей, роскошные жилища и предметы быта западных персонажей (однако, находясь на территории враждебной страны, шпионы приспосабливаются к жилищным и бытовым условиям противника).
приемы изображения действительности: как правило, условно-гротескное изображение жизни людей во «враждебных государствах».
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: положительные (пограничники, сотрудники контрразведки, разведчики/шпионы, диверсанты, мирные граждане) и отрицательные (те же лица, правда, кроме мирных граждан). Разделенные идеологией и мировоззрением (буржуазным и коммунистическим) персонажи, как правило, обладают крепким телосложением и выглядят согласно установкам источника медиатекста: шпионы могут на какое-то время (до разоблачения, например) выглядеть симпатично, но затем обязательно обнаружат свою мерзкую сущность... Прочие советские персонажи (пограничники, начальники из КГБ и пр.) показаны грубыми и жестокими фанатиками с примитивной лексикой, вечно нахмуренными лицами, активной жестикуляцией и неприятными тембрами истошных криков...
существенное изменение в жизни персонажей: отрицательные персонажи совершают преступление (нелегальный переход границы, диверсия, шпионаж, шантаж, кража государственных секретов, убийства).
возникшая проблема: нарушение закона.
поиски решения проблемы: расследование преступления, преследование отрицательных персонажей.
решение проблемы: положительные персонажи разоблачают/ловят/уничтожают отрицательных.
Посольство / Embassy. США, 1972. Режиссер Г.Хеслер.
исторический период, место действия: одна из арабских стран начала 1970-х годов. Американское посольство.
обстановка, предметы быта: улицы арабской столицы, интерьеры посольства.
приемы изображения действительности: нейтрально-корректные по части изображения положительных американских персонажей; легкий гротеск по отношению к советскому шпиону (хотя поначалу он показан вполне нейтрально), обстановка, интерьеры выглядят вполне реалистично.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: отрицательный персонаж – советский шпион; положительные персонажи – диссидент, сбежавший из СССР, и сотрудники американского посольства. Все персонажи одеты примерно одинаково – в соответствии с дипломатическим статусом. Объединяет их и сдержанность проявления чувств и мыслей. Понятно, что советский шпион вынужден скрывать свою приверженность «ценностям социалистического образа жизни».
существенное изменение в жизни персонажей: советский шпион пробирается в американское посольство.
возникшая проблема: советский шпион пытается убить диссидента из СССР, попросившего политическое убежище у американского посла.
поиски решения проблемы: положительные американцы пытаются выявить советского шпиона.
решение проблемы: советский шпион разоблачен.
Телефон / Telefon. США, 1977. Режиссер Д.Сигел.
исторический период, место действия: США второй половины 1970-х годов.
обстановка, предметы быта: улицы американских городов, офисы американских спецслужбы.
приемы изображения действительности: нейтрально-корректные по части изображения положительных американских персонажей; легкий гротеск по отношению к советскому шпиону; обстановка, интерьеры выглядят вполне реалистично.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: отрицательный персонаж – советский шпион Далчинский; положительные персонажи – советский агент Борзов (здесь ощутимо прямое влияние политики «разрядки» на сценарные разработки Голливуда, прежде не отваживавшегося наделять положительными чертами советских шпионов); попутно отметим, что похожий прием раньше был использован и в советском кино – в фильме «Ошибка резидента», снятом в 1968 году, американский шпион там также показан во вполне позитивном ключе) и сотрудники американских спецслужб. Все персонажи одеты примерно одинаково – в добротную одежду. Объединяет их и сдержанность проявления чувств и мыслей.
существенное изменение в жизни персонажей: советский шпион Далчинский решает осуществить давний план советской разведки – кодовым словом по телефону он приказывает зомбированным еще в 1940-х годах агентам Кремля взрывать военные объекты на территории США.
возникшая проблема: безопасность США оказывается под угрозой (хотя большинство из взорванных объектов в военном отношении устарели).
поиски решения проблемы: Кремль посылает в США своего лучшего агента Борзова с целью помешать планам Далчинского.
решение проблемы: Борзов нейтрализует Далчинского и предотвращает дальнейшую серию взрывов. Блестяще завершив операцию, Борзов (по-видимому, покоренный американским образом жизни и красавицей Барбарой), решает остаться в США навсегда. Здесь причины изначально положительного имиджа Борзова становятся ясными даже недогадливой аудитории...
Нет выхода / No Way Out. США, 1987. Режиссер Р.Доналдсон
исторический период, место действия: США середины 80-х годов XX века.
обстановка, предметы быта: офисы спецслужб, интерьеры квартир.
приемы изображения действительности: бытовая обстановка и все персонажи изображены вполне реалистично, без гротеска.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: отрицательный персонаж – советский шпион (харизматичный, симпатичный, целеустремленный, умный, со вкусом одетый); положительные персонажи – американцы, в том числе - сотрудники американских спецслужб. Советский шпион большую часть действия умело скрывает свои истинные цели и задачи, ловко маскируясь под обаятельного американца.
существенное изменение в жизни персонажей: советский шпион оказывается в курсе дел американских спецслужб.
возникшая проблема: советский шпион пытается навредить обороноспособности США.
поиски решения проблемы: положительные американцы пытаются выявить советского шпиона.
решение проблемы: советский шпион разоблачен.
Структура стереотипов западных «конфронтационных» фильмов жанра action (боевиков)
исторический период, место действия: любой отрезок времени с 1917 по 1991 годы, СССР, США, другие страны.
обстановка, предметы быта: скромные жилища и предметы быта советских персонажей, роскошные жилища и предметы быта западных персонажей (если последние, конечно, находятся на Западе, а не на территории СССР), унифицированные фактуры военных объектов – баз, кабин самолетов и танков, палуб военных кораблей, отсеков подлодок.
приемы изображения действительности: как правило, условно-гротескное изображение жизни людей во «враждебных государствах».
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: положительные персонажи (военные любых родов войск, мирные граждане) – носители демократических идей; агрессоры (военнослужащие, диверсанты, террористы) – носители антигуманных идей. Разделенные идеологией и мировоззрением (буржуазным и коммунистическим) персонажи, как правило, обладают крепким телосложением и выглядят согласно установкам источника медиатекста: в западных фильмах советские персонажи (солдаты, офицеры) показаны грубыми и жестокими фанатиками с примитивной лексикой, вечно нахмуренными лицами, активной жестикуляцией и неприятными тембрами истошных криков.
существенное изменение в жизни персонажей: отрицательные персонажи совершают преступление (военная агрессия, диверсии, убийства).
возникшая проблема: нарушение закона - жизнь положительных персонажей, а нередко, и жизнь всех мирных персонажей демократической страны (в том или ином ее понимании) под угрозой.
поиски решения проблемы: вооруженная борьба положительных персонажей с вражеской агрессией
решение проблемы: уничтожение/пленение агрессоров, возвращение к мирной жизни.
Огненный лис / Firefox. США, 1982. Режиссер К.Иствуд.
исторический период, место действия: Москва и Подмосковье начала 1980-х годов.
обстановка, предметы быта: московские улицы интерьеры квартир, подмосковный военный аэродром, кабина реактивного истребителя; аскетичный быт советской жизни.
приемы изображения действительности: советские фактуры, интерьеры, костюмы и пр. поданы в отчетливо гротесковом ключе. Москва выглядит темным, грязным, неприветливым городом, с военными патрулями на улицах и в метро.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: положительный персонаж – мужественный и ловкий американский летчик, он же доблестный шпион и патриот Америки; отрицательные персонажи - его советские противники, недогадливые и неприятные; простые московские прохожие показаны людьми с мрачными лицами в практически одинаковой одежде серо-коричневого цвета. Лексика всех персонажей незамысловата. Мимика и жесты часто утрированны.
существенное изменение в жизни персонажей: обманув бдительность вооруженной охраны, американский летчик пробирается на советский военный аэродром.
возникшая проблема: американский летчик захватывает секретный советский реактивный самолет Firefox и успешно взлетает.
поиски решения проблемы: советские военные пытаются сбить/уничтожить захваченный самолет, а американский летчик - уйти от погони.
решение проблемы: американский летчик успешно приземляется на западном военном аэродроме.
Рожденный американцем / Born American. США, 1985. Режиссер Р.Харлин.
исторический период, место действия: Финляндия и СССР середины 1980-х годов, пограничные районы.
обстановка, предметы быта: улицы и дома в Финляндии и СССР, застенки КГБ. Убогий быт советской жизни.
приемы изображения действительности: советские фактуры, интерьеры, костюмы и пр. изображены в отчетливо гротесковом ключе, финские – в рекламно-позитивном.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: положительные персонажи – простые симпатичные американские парни; отрицательные персонажи - советские сотрудники КГБ. Последние выглядят открыто карикатурно - с истеричной мимикой и жестами, примитивной лексикой. Советские персонажи одеты серо, невзрачно.
существенное изменение в жизни персонажей: обманув бдительность советских пограничников, американский парень «ради шутки» нелегально переходит финско-советскую границу.
возникшая проблема: американский парень попадает в лапы жестоких агентов КГБ.
поиски решения проблемы: американский парень пытается вырваться на волю.
решение проблемы: американскому парню удается вернуться на Запад.
Рембо-3 / Rambo III. США, 1988. Режиссер П.МакДоналд.
исторический период, место действия: Оккупированный советской армией Афганистан второй половины 1980-х годов, горные районы.
обстановка, предметы быта: военные базы, военные принадлежности (форма, оружие и пр.).
приемы изображения действительности: фактуры, интерьеры, костюмы и пр. выглядят вполне реалистично, но элементы условности хорошо заметны в свойственных данному жанру сценах драк и перестрелок.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: положительный мужественный и непобедимый американский воин и отрицательные советские захватчики (изображенные в гротескном ключе). Лексика персонажей проста и связана с армейской спецификой. Мимика и жесты персонажей часто утрированны. Одежда большинства персонажей – военная форма. Их физическое развитие явно выше среднего.
существенное изменение в жизни персонажей: американский супермен попадает в Афганистан, оккупированный советской армией.
возникшая проблема: жизнь американца, как, впрочем, и жизнь простых афганских жителей находится под угрозой.
поиски решения проблемы: доблестный американский воин решает встать на защиту демократии и свободы афганского народа.
решение проблемы: победа американского супермена над советскими захватчиками.
Структура стереотипов западных «конфронтационных» фильмов мелодраматического жанра
исторический период, место действия: любой отрезок времени с 1917 по 1991 годы, СССР, США, другие страны.
обстановка, предметы быта: скромные жилища и предметы быта советских персонажей, роскошные жилища и предметы быта западных персонажей.
приемы изображения действительности: как правило, условно-гротескные по отношению к жизни людей во «враждебных государствах».
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: мужской и женский персонажи с контрастным идеологическим и социальным статусом. Персонажи, как правило, обладают стройным телосложением и выглядят вполне симпатично. Их одежда, лексика и мимика находятся в «среднестатистических» рамках.
существенное изменение в жизни персонажей: встреча мужского и женского персонажей
возникшая проблема: идеологический и социальный мезальянс.
поиски решения проблемы: персонажи преодолевают идеологические и социальные препятствия на пути их любви.
решение проблемы: свадьба/любовная гармония (в большинстве случаев), смерть, разлука персонажей (в виде исключения из правила).
Пилот реактивного самолета / Jet Pilot. США, 1957. Режиссер Дж. фон Штернберг.
исторический период, место действия: США (Аляска) и СССР 1950-х годов.
обстановка, предметы быта: кабина реактивного самолета, жилые комнаты, военные офисы.
приемы изображения действительности: акцентировано позитивные по отношению к положительным персонажам, гротеск по отношению к персонажам отрицательным.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: американский полковник и девушка – пилот советского реактивного самолета. Их разделяет контрастный идеологический, социальный и материальный статус. Основная одежда персонажей – военная форма. Оба отличаются стройным телосложением. Лексика персонажей проста. Мимика и жесты эмоциональны.
существенное изменение в жизни персонажей: Советский реактивный самолет приземляется на Аляске. Его пилот – обаятельная русская красавица, очарована Америкой, в нее тут же влюбляется американский полковник, они женятся…
возникшая проблема: вскоре после свадьбы выясняется, что очаровательная русская супруга американского полковника - шпионка.
поиски решения проблемы: американец начинает вести свою игру - он (как контрразведчик) приезжает вместе с женой в СССР.
решение проблемы: В СССР американский полковник понимает, что его русская жена любит его по-настоящему. Объединившись, супруги крадут советские авиационные секреты и улетают назад, на Аляску, угнав новейший реактивный истребитель...
Анастасия / Anastasia. США, 1956. Режиссер А.Литвак
исторический период, место действия: Европа 1920-х годов.
обстановка, предметы быта: апартаменты членов семьи Романовых, находящихся в европейской эмиграции, городские улицы.
приемы изображения действительности: акцентировано позитивные по отношению к положительным персонажам – членам семьи Романовых, в целом позитивное по отношению к героине И.Бергман, выдающей себя за Анастасию - уцелевшую от расстрела дочь императора Российской империи – Николая Второго.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: уцелевшие члены семьи Романовых – потомственные аристократы с утонченными манерами и самозванка Анастасия. Их разделяет контрастный социальный статус. Основная одежда соответствует их социальному статусу – члены царской семьи одеты изысканно. Анастасия (особенно поначалу) – просто. Лексика персонажей отвечает их социальному статусу. Мимика порой форсирована, жесты эмоциональны.
существенное изменение в жизни персонажей: Париж, 1928 год. Члены царской семьи, находящиеся в эмиграции, знают, что в июле 1918 года вместе с Николаем Вторым и его супругой Александрой были расстреляны большевиками и их дети. Однако внезапно в одной из стран Западной Европы появляется молодая женщина, выдающая себя за дочь русского царя - Анастасию…
возникшая проблема: появление самозванки заставляет некоторых членов царской семьи и их приближенных терзаться в сомнениях: а вдруг обаятельная незнакомка и есть княжна Анастасия?
поиски решения проблемы: странные вспышки памяти «Анастасии» о деталях жизни Романовых, которые могли быть известны только узкому кругу царской семьи, кажутся весьма правдоподобными… Члены семьи Романовых пытаются разобраться в странной истории самозванки…
решение проблемы: императрица Мария Федоровна поначалу обвиняет Анастасию в обмане, но, услышав воспоминания Анны, известные только им двоим, признает в ней дочь Николая Второго. И хотя потом пресса раскапывает подлинные факты, Мария Федоровна благословляет Анастасию на любовный союз с бывшим русским генералом…
Золотой миг: олимпийская история любви / The Golden Moment. An Olympic Love Story. США, 1980. Режиссер Р.Сарафьян.
исторический период, место действия: СССР и США рубежа 1980-х годов.
обстановка, предметы быта: городские улицы, квартиры, номера отелей, спортивные залы. Аскетический быт советской жизни.
приемы изображения действительности: условные (в рамках жанра), вся американская обстановка и основные американские персонажи показаны с симпатией.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: обаятельные и симпатичные американский атлет и советская гимнастка; их разделяет контрастный идеологический, социальный и материальный статус. Предпочтительная форма персонажей – спортивная. Оба отличаются стройным телосложением. Лексика персонажей проста. Мимика и жесты - в рамках, присущих обычным людям.
существенное изменение в жизни персонажей: встреча этих персонажей во время Олимпиады 1980 в Москве, их взаимная влюбленность.
возникшая проблема: на пути влюбленных возникает серия препятствий.
поиски решения проблемы: советская гимнастка и американский атлет пытаются преодолеть препятствия на пути их любви.
решение проблемы: выбирая между спортивной карьерой в СССР и любовью, советская гимнастка предпочитает любовь…
Структура стереотипов западных «конфронтационных» фильмов комедийного жанра с ориентацией на любовную тему
исторический период, место действия: любой отрезок времени с 1917 по 1991 годы, СССР, США, другие страны.
обстановка, предметы быта: скромные жилища и предметы быта советских персонажей, роскошные жилища и предметы быта западных персонажей.
приемы изображения действительности: жизнь людей во «враждебных государствах», как правило, представлена условно/гротескно.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: мужской и женский персонажи с контрастным идеологическим и социальным статусом. Одежда западных персонажей выглядит ярче и лучше советских. Телосложение, лексика, мимика и жесты дифференцированы, но в целом главные персонажи, которые по воле сюжета влюбляются друг в друга, обладают приятной внешностью.
существенное изменение в жизни персонажей: главные персонажи влюбляются при забавных/эксцентрических обстоятельствах.
возникшая проблема: идеологический и социальный мезальянс.
поиски решения проблемы: в серии смешных/эксцентрических ситуаций персонажи преодолевают идеологические и социальные препятствия на пути их любви.
решение проблемы: свадьба/любовная гармония, окрашенная юмором.
Железная юбка / The Iron Petticoat. США, 1957. Режиссер Р.Томас.
исторический период, место действия: Лондон второй половины 1950-х.
обстановка, предметы быта: комфортабельные жилища и предметы быта англичан.
приемы изображения действительности: условные (в рамках жанра), лондонская обстановка и персонажи показаны с явной симпатией. По отношению к главной героине – Коваленко – приемы изображения меняются по ходу сюжета: от гротеска (в ее начальном, советском статусе), до симпатии (ее финальный переход на сторону «западных ценностей»).
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: стройная красавица Коваленко, она же капитан КГБ (поначалу она аскетична и одержима коммунистическим идеями и этикой, но в финале поддается соблазну западных искушений и одевается по последнему слову моды), и элегантный, обаятельный британский капитан контрразведки. Лексика главной героини вначале пронизана советскими канцеляризмами и штампами, мимика и жесты сдержанно официозны. В финале всё меняется – героиня говорит на нормальном человеческом языке, ее мимика и жесты также «очеловечены».
существенное изменение в жизни персонажей: Приехав в Лондон по заданию коммунистического режима, Коваленко знакомится с британским капитаном.
возникшая проблема: контраст в идеологическом и социальном статусах создают препятствия для любовных отношений персонажей, окрашенных эксцентрикой, сатирой и юмором.
поиски решения проблемы: любовь становится ключом на пути преодоления препятствий, главное из которых – взаимное желание влюбленных убедить друг друга в преимуществах коммунистического или западного мира.
решение проблемы: решение влюбленной советской красавицы остаться в Лондоне, ее счастливый альянс с британским офицером.
Шелковые чулки / Silk Stocking. США, 1957. Режиссер Р.Мамулян.
Ниночка / Ninochka. США, 1960. Режиссер Т.Донован.
(оба фильма – римейки знаменитой комедии Э.Любича
«Ниночка» (1939).
исторический период, место действия: Париж и Москва второй половины 1950-х годов.
обстановка, предметы быта: роскошные жилища и предметы быта парижан, убогий официоз московских государственных учреждений.
приемы изображения действительности: условные (в рамках жанра), однако если французская обстановка показана с симпатией, советский быт дан карикатурно. Правда, по отношению к главной героине – Ниночке – приемы изображения меняются по ходу сюжета: от карикатуры (в ее начальном, фанатично-советском статусе), до восхищения (ее финальный переход на сторону «западных ценностей»).
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: симпатичная советская функционерка Ниночка (поначалу она скромна и одержима коммунистическим идеями и партийной этикой, но в финале поддается соблазну западных искушений и одевается по последнему слову парижской моды) и богатый, изысканно одетый парижанин. Лексика главной героини вначале пронизана советскими канцеляризмами и штампами, мимика и жесты сдержанно официозны. В финале всё волшебно меняется – героиня говорит на языке парижских салонов, ее мимика и жесты соответствуют жанровым представлениям о дамах «высшего света».
существенное изменение в жизни персонажей: приехав в Париж по заданию коммунистического режима, Ниночка знакомится с обаятельным парижанином.
возникшая проблема: контраст в идеологическом, социальном, материальном статусах создают препятствия для любовных отношений персонажей, окрашенных эксцентрикой, сатирой и юмором.
поиски решения проблемы: любовь и соблазн «западных ценностей» становятся ключами на пути преодоления препятствий, главное из которых – начальная фанатичная приверженность Ниночки коммунистической идеологии и активное неприятие ею «буржуазного образа жизни».
решение проблемы: отречение влюбленной Ниночки от коммунистических идеалов и ее счастливый альянс с парижанином.
Раз, два, три / One, Two, Three. США, 1963. Режиссер Б.Уалдер.
исторический период, место действия: разделенный на оккупационные зоны Берлин начала 1960-х годов.
обстановка, предметы быта: комфортабельные жилища, офисы и современные предметы быта западных немцев и живущих в Западном Берлине американцев. Аскетичный быт восточно-берлинских немцев.
приемы изображения действительности: условные (в рамках жанра), западноберлинская обстановка и персонажи показаны с явной симпатией. По отношению к одному из главных героев – парню из восточного Берлина – приемы изображения меняются по ходу сюжета: от гротеска (в ее начальном, ГДРовском статусе), до симпатии (его финальный переход на сторону «западных ценностей»). Персонажи «мира социализма» (агенты спецслужб ГДР, советские военные) изображены в духе откровенной карикатуры.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: одержимый коммунистическими идеями малоимущий парень из Восточного Берлина и девушка – избалованная дочь американского миллионера, главы фирмы «Кока-Кола». Парень одет просто и бедно. Дочь миллионера - нарядно и дорого, ее лексика находится в рамках голливудского штампа «глупой блондинки». Лексика парня из восточного Берлина вначале пронизана социалистическими штампами, мимика и жесты откровенно утрированы. В финале всё меняется – герой говорит на нормальном человеческом языке...
существенное изменение в жизни персонажей: Парень из Восточного Берлина и девушка, прилетевшая из Америки, встречаются в разделенном на западную и советскую зоны Берлине, между ними вспыхивает любовное чувство.
возникшая проблема: контраст в социальном и материальном статусах влюбленных и ультра-коммунистические взгляды парня из ГДР создают препятствия для их любовных отношений, окрашенных эксцентрикой, сатирой и юмором (арест парня полицией Восточного Берлина; неожиданный визит родителей девушки, считающих, что их дочь собирается выходить замуж за немецкого аристократа; начальная фанатичная приверженность парня коммунистической идеологии и активное неприятие им «буржуазного образа жизни»).
поиски решения проблемы: с помощью хитроумного директора берлинского филиала «Кока-Колы» парень и девушка постепенно преодолевают возникшие трудности.
решение проблемы: отречение парня от коммунистических идеалов и его счастливый брак с дочерью американского миллионера.
Структура стереотипов западных «конфронтационных» фильмов комедийного жанра с ориентацией на тему идеологической пропаганды
исторический период, место действия: любой отрезок времени с 1917 по 1991 годы, СССР, США, другие страны.
обстановка, предметы быта: скромные жилища и предметы быта советских персонажей, роскошные жилища и предметы быта западных персонажей.
приемы изображения действительности: как правило, условно-гротескное по отношению к жизни людей из «враждебных государств».
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: советские и западные персонажи с контрастным идеологическим и социальным статусом. Они выглядят согласно установкам источников медиатекстов: советские персонажи (если они, конечно, не задумали переметнуться на Запад) показаны вульгарными фанатиками с примитивной лексикой, вечно нахмуренными лицами, активной жестикуляцией и неприятными тембрами голосов;
существенное изменение в жизни персонажей: персонажи встречаются при забавных/эксцентрических обстоятельствах, при этом либо западные, либо советские персонажи находятся на чужой территории.
возникшая проблема: «культурный шок», взаимное непонимание.
поиски решения проблемы: в серии смешных/эксцентрических ситуаций персонажи преодолевают идеологические препятствия на пути взаимопонимания.
решение проблемы: гармония взаимопонимания советских и западных персонажей, окрашенная юмором.
Русские идут, русские идут! / The Russian Are Coming, The Russian Are Coming! США, 1966. Режиссер Н.Джуисон.
исторический период, место действия: прибрежная зона США середины 60-х годов XX века.
обстановка, предметы быта: советская подводная лодка, пляж, небольшой американский городок, интерьеры комфортабельных американских домов.
приемы изображения действительности: условные (в рамках жанра), вся американская обстановка и американские персонажи показаны с симпатией. Советские персонажи (моряки подлодки) персонажи показаны карикатурно, но это не злая, а, скорее, добродушная карикатура.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: простые симпатичные американцы и экипаж советской подводной лодки; их разделяет контрастный идеологический, социальный, материальный статус. Американские персонажи патриотичны, обаятельны, вежливы, предупредительны, готовы помочь непривыкшим к комфортабельному американскому быту советским морякам, хорошо одеты, их речь проста по лексике, мимика и жесты зависят от ситуации (вначале американцы явно испуганны, подозревая, что русские решили напасть на США). Советские моряки одеты в военную форму, часто и активно жестикулируют, эмоционально неуравновешенны.
существенное изменение в жизни персонажей: из-за неполадок на подлодке, севшей на мель из-за прихоти придурковатого капитана, советские моряки оказываются на прибрежной территории США. Так начинаются их забавные/эксцентрические приключения...
возникшая проблема: не зная (поначалу) ничего о демократических традициях, экономике и культуре США, советские моряки испытывают «культурный шок» от созерцания достижений «американского образа жизни», а простые американцы с трудом расстаются со стереотипными представлениями о русских, как свирепых врагах.
поиски решения проблемы: в серии смешных/эксцентрических ситуаций советские и американские персонажи преодолевают препятствия на пути взаимопонимания.
решение проблемы: гармония взаимопонимания советских и американских персонажей, окрашенная юмором.
Москва на Гудзоне / Moscow on the Hudson. США, 1985. Режиссер П.Мазурский.
исторический период, место действия: Москва и Нью-Йорк середины 1980-х годов.
обстановка, предметы быта: московские и нью-йоркские улицы, магазины, квартиры. Убогий быт советской жизни. Комфортабельный быт американцев.
приемы изображения действительности: условные (в рамках жанра), вся американская обстановка и основные американские персонажи показаны с симпатией; советский быт, напротив, показан с самой негативной стороны (темные улицы, очереди за туалетной бумагой, нехватка бензина и пр.).
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: советские граждане и простые американцы, их разделяет контрастный идеологический, социальный и материальный статус. Главный советский персонаж (в исполнении Р.Уильямса), пожелавший эмигрировать в Америку, изначально показан с симпатией и сочувствием. Остальные советские персонажи показаны карикатурно, особенно сыгранный С.Крамаровым агент КГБ. Этот персонаж отличается истероидностью мимики и жестов, матерной лексикой, но даже он в итоге решает остаться в США. Одежда и еда советских персонажей бедна, поэтому они дружно восхищаются содержимым американского супермаркета. Любопытно, что в фильме, пусть даже и в искаженном акцентом варианте, звучит русская речь (что в тогдашних западных фильмах встречалось весьма редко).
существенное изменение в жизни персонажей: во время турпоездки в США советский гражданин решает попросить политического убежища, так начинаются его забавные/эксцентрические приключения...
возникшая проблема: новоявленный эмигрант, привыкший к советским бытовым трудностям, испытывают «культурный шок» в американском «обществе изобилия».
поиски решения проблемы: в серии смешных/эксцентрических ситуаций экс-советский персонаж преодолевает препятствия на пути понимания ценностей Западного мира и американского образа жизни.
решение проблемы: обретение экс-советским персонажем гармонии существования в новых для него американских условиях.
Твист снова в Москве / Twist again `a Moscou. Франция, 1986. Режиссер Ж.-М.Пуаре.
исторический период, место действия: Москва середины 1980-х годов.
обстановка, предметы быта: казенные интерьеры московских домов и гостиниц. Аскетичный быт советских людей.
приемы изображения действительности: условные (в рамках жанра). Французы показаны с симпатией, советские персонажи изображены в духе откровенной карикатуры.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: французы одеты по парижской моде, советские персонажи одеты бедновато, их лексика убога, мимика и жесты утрированы...
существенное изменение в жизни персонажей: французы, приезжают в Москву и попадают в замысловатый водоворот комедийных событий…
возникшая проблема: французских и советских персонажей разделяет контрастный идеологический, социальный и материальный статус, от столкновения с реалиями московской жизни французы испытывают «культурный шок»…
поиски решения проблемы: приноравливаясь к советскому образу жизни и его бюрократическим препонам, французы пытаются преодолеть возникшие трудности.
решение проблемы: отрицательные советские персонажи наказаны
Структура стереотипов западных «конфронтационных» фильмов фантастического жанра
исторический период, место действия: Далекое/недалекое будущее. СССР, США, другие страны, космическое простанство.
обстановка, предметы быта: скромные жилища и предметы быта советских персонажей, интерьеры космических кораблей, роскошные жилища и предметы быта западных персонажей; вариация – разрушенные ядерной катастрофой города, дома, скудный быт немногих оставшихся в живых персонажей.
приемы изображения действительности: квазиреалистическое или футуристическое изображение событий в «своих государствах, космических кораблях», условно-гротескное изображение жизни во «враждебных государствах и космических кораблях».
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: положительные персонажи (космонавты, военнослужащие, мирные граждане) – носители демократических идей; агрессоры (космонавты, военнослужащие, диверсанты, террористы) – носители антигуманных идей. Одежда: форма космонавтов, военная форма, обычная гражданская одежда. Телесложение – спортивное, крепкое. Лексика – деловая, мимика и жесты подчинены текущим функциям.
существенное изменение в жизни персонажей: отрицательные персонажи совершают преступление (военная агрессия, диверсии, убийства).
возникшая проблема: нарушение закона - жизнь положительных персонажей, как, нередко, и жизнь всех мирных персонажей демократической страны (в том или ином ее понимании) под угрозой. Вариация: после ядерной катастрофы остается лишь несколько выживших.
поиски решения проблемы: вооруженная борьба положительных персонажей с вражеской агрессией, или попытка оставшихся в живых после взрывов атомных бомб как-то приспособиться к новым условиям существования.
решение проблемы: уничтожение/пленение агрессоров, возвращение к мирной жизни, или адаптация оставшихся в живых после ядерной атаки к новым суровым условиям.
Пятеро / Five. США, 1951. Режиссер Э.Оболэр.
исторический период, место действия: недалекое будущее.
обстановка, предметы быта: улицы и квартиры американского города, руины.
приемы изображения действительности: квазиреалистическое изображение событий.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: простые американцы. Их одежда, лексика, мимика и жесты соответствуют «среднестатистическим».
существенное изменение в жизни персонажей: Враги сбрасывают на территорию США ядерные бомбы…
возникшая проблема: жизнь простых американцев, как, впрочем, и само существование США находится под угрозой, в живых остается только пятеро.
поиски решения проблемы: пятеро чудом выживших американцев объединяются для того, чтобы приспособиться к новым условиям существования.
решение проблемы: несмотря на все трудности, пятеро американцев находят в себе силы начать новую жизнь в пост-ядерную эпоху…
Америка (Amerika). США, 1987. Режиссер Д.Врэй
исторический период, место действия: Недалекое будущее - 1997 год. Аляска.
обстановка, предметы быта: улицы и дома американцев, их налаженный комфортабельный быт (до вторжения советских войск).
приемы изображения действительности: грубый гротеск на грани карикатуры.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: положительные американцы (симпатичные, сильные, смелые, честные, патриотичные, верные воинскому и гражданскому долгу) и отрицательные советские захватчики (коварные, жестокие, обладающие неприятной внешностью, охваченные агрессивными идеями). Лексика персонажей проста и связана с армейской спецификой. Одежда советских персонажей – военная форма.
существенное изменение в жизни персонажей: Советский Союз вероломно нападает на Америку, высадив десант на Аляске…
возникшая проблема: жизнь простых американцев, как, впрочем, и само существование США находится под угрозой.
поиски решения проблемы: американцы объединяются для борьбы с советским захватчиками.
решение проблемы: победа демократических американских сил над советскими захватчиками.
Красный рассвет (Red Dawn). США, 1984. Режиссер Дж.Милиус.
исторический период, место действия: Недалекое будущее. Флорида, США.
обстановка, предметы быта: улицы и дома американцев, их налаженный комфортабельный быт (до вторжения советских войск).
приемы изображения действительности: грубый гротеск на грани карикатуры.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: положительные американские тинэйджеры (симпатичные, сильные, смелые, честные, патриотичные) и отрицательные советские и кубинские захватчики (коварные, жестокие, обладающие неприятной внешностью, охваченные агрессивными идеями). Лексика персонажей проста и связана с тинэйджерской и армейской спецификой. Одежда советских и кубинских персонажей – военная форма.
существенное изменение в жизни персонажей: Советский Союз в союзе с коммунистической Кубой вероломно нападает на Америку, высадив десант на Флориде…
возникшая проблема: жизнь простых американцев, как, впрочем, и само существование США находится под угрозой.
поиски решения проблемы: американцы объединяются для борьбы с советско-кубинскими захватчиками.
решение проблемы: победа демократических американских сил над советско-кубинскими захватчиками.
2.4. Идеологический, структурный анализ трактовки образа России на западном экране в эпоху идеологической конфронтации (1946-1991)
(на примере фильма Т.Хэкфорда «Белые ночи»)
Современному обществу «свойственны изменчивость норм, разрушение традиций, социальная мобильность, недолговечность всех образцов и принципов — иначе говоря, люди в таком обществе испытывают постоянное информационное давление, порой даже мощные информационные удары, которые требуют непрерывной перестройки восприятия, непрерывного приспособления психики и столь же непрерывной переквалификации интеллекта»
[Эко, 2005, с.199-200]. Но, быть может, именно по этой причине у аудитории все сильнее проявляется стремление к медиатекстам прошлых лет, отчего повышается востребованность телеканалов типа «Ностальгия» и «Ретро-ТВ». Парадоксально, но аудитория этих каналов состоит не только из людей старшего возраста, с удовольствием пересматривающих фильмы и телепередачи своей молодости, но и частично и молодежи, для которых увиденное становится, по сути, премьерой. При этом ретро-телеканалы, как правило, вновь и вновь повторяют именно развлекательные, «жанровые», «потребительские» медиатексты, которые во времена своего появления часто осуждались идеологически ангажированной критикой…
Но «разве не естественно, что даже человек вполне про¬свещенный … в моменты расслабления и отдыха (полезного и необходимого) хочет насладиться роскошью инфантильной лени и обращается к «потребительским продуктам», чтобы обрести покой в оргии избыточности? Стоит нам подойти к данной проблеме с этой точки зрения — и мы уже склонны отнестись более снисходительно к «отвлекающим развлечениям» … и осудить себя за при¬менение едкого морализма (приправленного философией) к тому, что на самом деле невинно и, может быть, даже благотворно. Но проблема предстает в ином свете — если удовольствие от избыточности из средства отдыха, из паузы в на-пряженном ритме интеллектуальной жизни, связанной с восприятием информации, превращается в норму всей деятельности воображения»
[Эко, 2005, с.200].
При этом я согласен с У.Эко в том, что «любое исследование структур произведения становится ipso facto разработкой неких исторических и социологических гипотез — даже если исследователь сам того не осознает или не хочет осознавать. И лучше отдавать себе в этом полный отчет, чтобы корректировать, насколько возможно, искажения перспективы, создаваемые избранным подходом, а также извлекать максимальную пользу из тех искажений, которые не могут быть исправлены. … Если осознать эти основные принципы исследовательского метода, то тогда описание структур произведения оказывается одним из наиболее выигрышных способов выявления связей между произведением и его общественно-историческим контекстом»
[Эко, 2005, с.208].В качестве примера анализа в идеологическом и социокультурном поле возьмем фильм Т.Хэкфорда
«Белые ночи» (США, 1985): он вышел на экраны в разгар очередного витка «холодной войны», но и сегодня неплохо продается на видео/DVD, регулярно появляется на телеэкранах мира. Это позволит нам выявить не только общественно-исторический контекст времени создания данного медиатекста, но и его структуру, сюжет, репрезентативность, этику, особенности жанровой модификации, иконографии, характеров персонажей.
Следуя методологии, разработанной У.Эко, «выделим три «ряда», или «системы», которые значимы в произведении: идеология автора; условия рынка, которые определили замысел, процесс написания и успех книги (или, по крайней мере, способствовали и тому, и другому, и третьему); приемы повествования» [Эко, 2005, с.209]. Такого рода подход, на наш взгляд, вполне соотносится с методикой анализа медиатекстов по К.Бэзэлгэт
[Бэзэлгэт, 1995] - с опорой на такие ключевые слова медиаобразования, как «медийные агентства» (media agencies), «категории медиа/медиатекстов» (media/media text categories), «медийные технологии» (media technologies), «языки медиа» (media languages), «медийные репрезентации» (media representations) и «медийная аудитория» (media audiences), так как все эти понятия имеют прямое отношение к идеологическим, рыночным и структурно-содержательным аспектам анализа медийных произведений.
Идеология авторов в социокультурном контексте (доминирующие понятия: «медийные агентства», «медийные репрезентации», «медийная аудитория»)
Здесь сразу придется оговориться, что под авторами мы будем понимать его основных создателей – сценаристов Дж.Голдмэна, Э.Хьюза, режиссера Тейлора Хэкфорда и оператора Д.Уоткина. Они задумывали и создавали свой фильм в эпоху активного политического противостояния США и СССР (см. таблицу основных политических событий в приложении), которое усилилось с началом афганской войны, акциями польского движения «Солидарность», подавленного введением военного положения, с новой эскалацией гонки вооружений (так называемые «звездные войны») и приходом к власти президента Р.Рейгана. Ко всему прочему 1 сентября 1983 года советский истребитель сбил пассажирский самолет южно-корейской авиакомпании, нарушивший границу СССР. Таким, образом, фильм «Белые ночи», вышедший на мировой экран в 1985 году, в идеологическом отношении стал яркой иллюстрацией легендарного тезиса Р.Рейгана об СССР как «империи Зла».
В самом деле, СССР показан в фильме мрачной, угрюмой страной, где даже величественный Питер выглядит враждебным человеку городом-капканом. Над несчастными главными персонажами измываются свирепые агенты КГБ – неутомимые борцы со Свободой и Демократией…
Условия рынка, которые способствовали замыслу, про¬цессу создания и успеха медиатекста (доминирующие понятия: «медийные агентства», «категории медиа/медиатекстов», «медийные технологии», «медийная аудитория»).
Западный медийный рынок 1980-х годов довольно часто обращался к российской тематике – с 1980 по 1985 годы было снято около 80 игровых фильмов (половина из них – американских) о России/СССР и с русскими/советскими персонажами. Далеко не все из них пользовались успехом у зрителей, поэтому можно предположить, что планами студий руководили не только коммерческие, но и политические соображения. Но, так или иначе, благодаря идеологической остроте, умелому жанровому синтезу мелодрамы, мюзикла и триллера, а также участию в фильме знаменитого танцовщика-эмигранта
Михаила Барышникова, «Белые ночи» стали кассовым хитом…
Поначалу Colambia выпустила фильм пробным показом в 21 кинотеатре США и Канады, где «Белые ночи» собрали за первый уик-энд почти полмиллиона долларов. В «большой уик-энд» 6-8 декабря 1985 года фильм был выпушен в прокат сразу в 891 кинотеатре, и сборы составили уже 4,5 миллиона долларов (3-е место по сборам уик-энда Северной Америки). Всего же только в США и Канаде «Белые ночи» за первый год демонстрации собрали 42 миллиона долларов (17 место в американском хит-параде 1985 года), опередив такие известные остросюжетные ленты, как «Коммандо» ($35 млн.), «Силверадо» ($32 млн.) и «Молодой Шерлок Холмс» ($20 млн.), вышедшие в прокат в тот же период
[http://www2.boxofficemojo.com rel=nofollow].
Таким образом, авторы экранизации добились своей главной цели – ощутимого зрительского успеха, вызванного не только удачным синтезом жанров, превосходной музыкой и хореографией, звездным составом (М.Барышников, Х.Миррен, И.Росселини, Г.Хайнс), но умелым использованием идеологической антисоветской конъюнктуры.
Структура и приемы повествования в медиатексте (доминирующие понятия: «категории медиа/медиатекстов», «медийные технологии», «языки медиа», «медийные репрезентации»)
Полагаю, что фильм «Белые ночи» построен на несложных дихотомиях:
1) враждебный и агрессивный советский мир и демократичный мир Запада;
2) положительные персонажи (эмигрант-танцовщик Родченко) и злодеи (агенты КГБ);
3) стремление к свободе, воле, независимости (Родченко) и конформизм (балерина Иванова);
4) план и результат.
Схематично структуру, сюжет, репрезентативность, этику, особенности жанровой модификации, иконографии, характеров персонажей можно представить следующим образом:
Исторический период, место действия: СССР середины 1980-х годов.
Обстановка, предметы быта: салон авиалайнера, городские улицы, жилые комнаты, театр, репетиционные залы. Аскетичный быт советской жизни.
Приемы изображения действительности: акцентировано позитивные по отношению к положительным персонажам, особенно – к звезде балета эмигранту Родченко, недвусмысленный гротеск по отношению к персонажам, имеющим отношение к КГБ.
Персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: бывший солист советского балета, а ныне американский гражданин Родченко и его бывшая возлюбленная – звезда советского балета Иванова. Их разделяет контрастный идеологический, социальный и материальный статус. Основная одежда персонажей – тренировочные или балетные костюмы. Оба отличаются стройным телосложением. Лексика персонажей проста. Мимика и жесты эмоциональны, артистичны. В контрасте с ними изображен полковник КГБ – грубый, резкий, жестокий персонаж, стоящий на «страже государственных интересов СССР».
Существенное изменение в жизни персонажей: 1985 год. В результате вынужденной посадки самолета эмигрант Родченко нежданно-негаданно оказывается на советской территории и попадает в сети КГБ. Советские спецслужбы посылают Иванову к Родченко, чтобы та уговорила его остаться в СССР.
Возникшая проблема: различие в идеологических взглядах мешают бывшим влюбленным найти общий язык.
Поиски решения проблемы: нахлынувшие воспоминания и чувства заставляют Иванову принять решение помочь Родченко бежать на Запад через советско-финскую границу.
Решение проблемы: Родченко успешно удается вернуться на Запад.
Влиятельный американский исследователь и медиапедагог А.Силверблэт
[Silverblatt, 2001, pp.80-81] разработал цикл вопросов к критическому анализу медиатекстов в историческом, культурном и структурном контексте. Основываясь на основных положениях данного цикла, попытаемся применить их к анализу «Белых ночей»:
A. Исторический контекст1. Что медиатекст сообщает нам о периоде своего создания?
a) когда состоялась премьера этого медиатекста?
Премьера фильма состоялась в ноябре-декабре 1985 года в США.
b) как тогдашние события влияли на медиатекст?
Очевидное влияние на медиатекст оказало резкое обострение конфронтации между США и СССР 1979-1984 годов, связанное с войной в Афганистане, политическими событиями в Польше. Важным импульсом в построении завязки сюжета стал, по-видимому, мировой резонанс осуждения СССР, после того, как советский истребитель сбил южно-корейский пассажирский самолет 1 сентября 1983 года…
c) как медиатекст комментирует события дня?
Авторская трактовка событий во многом подчинена стереотипам «холодной войны» - это касается взаимоотношений и характеров персонажей, визуального ряда и пр. Россия/СССР предстает на экране мрачной тоталитарной страной, в которой царствуют злобные агента КГБ и страдают простые люди…
2. Помогает ли знание исторических событий пониманию медиатекста?
a) медиатексты, созданные в течение конкретного исторического периода:
-какие события происходили во время создания данного произведения?
Фильм снимался в 1984 году, когда новый виток «холодной войны» между СССР и США был в разгаре – шла затяжная война в Афганистане. В США у власти находился президент Р.Рейган, занимавший по отношению к СССР жесткую силовую позицию. В феврале 1984 года от тяжелой болезни умер тогдашний лидер СССР - Ю.В.Андропов – сторонник жесткой политики по отношению к США. К власти пришел смертельно больной К.У.Черненко, при котором был отдан приказ о бойкоте Олимпиады в Лос-Анджелесе и заявлен протест против американской военной программы «Звездных войн». Правда, после смерти К.У.Черненко в марте 1985 года лидером в СССР стал либерально настроенный М.С.Горбачев, 12 марта того же года возобновивший переговоры об ограничении вооружений в Женеве. Но к тому времени съемки «Белых ночей» были уже завершены, и начало «потепления» в холодной войне уже не могло как-либо сказаться на общей концепции фильма.
-как понимание этих событий обогащает наше понимание медиатекста?
Разумеется, понимание историко-политического контекста помогает лучше разобраться как в особенностях сюжета фильма, так и в его идеологии. Человеку, совершенно не знакомому с историко-политическим контекстом первой половины 1980-х годов, наверное, будет очень сложно разобраться в том, почему образ России/СССР создан в «Белых ночах» именно так, а не иначе.
-каковы реальные исторические ссылки?
Среди реальных исторических ссылок можно назвать следующие: драматические события 1 сентября 1983 года, функции КГБ как разветвленного аппарата подавления инакомыслия в СССР, реальные факты бегства так называемых диссидентов из СССР (в том числе – самого М.Барышникова, исполнившего в «Белых ночах» главную роль), статус
В.С.Высоцкого как символа творческого нон-конформизма…
-имеются ли исторические ссылки в медиатексте?
Фильм не основан на реальных фактах, исторические ссылки имеют косвенный характер, в трактовке событий можно обнаружить определенную степень гротеска, однако все указанные выше политические тенденции проявлены.
-как понимание этих исторических ссылок затрагивает ваше понимание медиатекста?
Бесспорно, понимание исторических ссылок помогает лучшему восприятию «Белых ночей» как своего рода символа идеологической конфронтации между США и СССР.
B. Культурный контекст
1. Медиа и популярная культура: каким образом медиатекст отражает, укрепляет, внушает, или формирует культурные: a) отношения; b) ценности; c) поведение; d) озабоченность; e) мифы.
Последовательно отражая стереотипно негативное отношение Запада к России, фильм Т.Хэкфорда создает образ враждебной, агрессивной, милитаризированной и экономически отсталой тоталитарной России – с холодным климатом, бедным, бесправным населением, которым управляют злобные, жестокие, коварные коммунисты/спецслужбы. Здесь нет места демократии и правам человека, свободе слова и творчества…
2. Мировоззрение: какой мир изображен в медиатексте?
a) Какова культура этого мира?
В общем и целом в «Белых ночах» создается образ России/СССР как «Империи Зла». Эта империя не отрицает Культуру, но стремится полностью подчинить ее своей тоталитарной Идеологии.
-люди?
Люди в этом мире делятся на три основные группы: «Силы Зла» (руководство, агенты КГБ, военные и пр.), «страдающие конформисты» (большинство обычных людей, в том числе и причастных к миру культуры, искусства) и «нон-конформисты» (звезда балета Родченко в исполнении М.Барышникова) – их меньшинство, единицы…
-идеология?
В этом мире доминирует коммунистическая тоталитарная идеология, с которой вынуждены подчиняться даже те, кому она, быть может, и не по душе…
b) Что мы знаем о людях этого мира?
-представлены ли персонажи в стереотипной манере?
В целом персонажи «Белых ночей» представлены в стереотипной манере без особых полутонов (особенно это касается отрицательных героев), однако талант выдающихся танцовщиков М.Барышникова и Г.Хайнса позволяет им «досказать» эмоционально-психологические переживания своих персонажей через хореографические этюды. Более того, в начальном эпизоде фильма М.Барышников блестяще исполняет сольную балетную партию, где в аллегорической форме отражается авторская концепция фильма.
-что эта репрезентация сообщает нам о культурном стереотипе данной группы?
Репрезентация основана на следующем культурном стереотипе: СССР – тоталитарная страна, наводненная агентами КГБ (в свободное от работы время литрами пьющими водку), с мрачными, полутемными городами, казенными интерьерами и одеждой людей, господством коммунистической идеологии, со страдающим «простым народом»…
c) Какое мировоззрение представляет этот мир - оптимистическое или пессимистическое?
Авторы «Белых ночей» представляют образ СССР в целом пессимистически, их оптимизм проявляется только в том, что они дают главному положительному герою шанс выбраться из лап КГБ живым и невредимым…
-персонажи этого медиатекста счастливы?
Увы, в «Белых ночах» нет счастливых персонажей, каждый из них, так или иначе, страдает (даже свирепый полковник КГБ в брутальном исполнении Е.Сколимовского по-своему несчастен, так как не смог помешать побегу Родченко на Запад).
-есть ли у персонажей этого медиатекста шанс быть счастливыми?
Авторы «Белых ночей» ясно дают понять, что счастливым можно быть только ВНЕ «Империи Зла»…
d) Способны ли персонажи управлять их собственными судьбами?
Здесь как раз и проявляется американский прагматизм – уверенность в том, что при должном желании человек может управлять своей судьбой. Конформисты (Иванова) остаются пленниками «Империи Зла». Нон-конформисты (звезда балета Родченко) способны в, казалось бы, безвыходных обстоятельствах изменить свою судьбу к лучшему…
e) Какова иерархия ценностей согласно данному мировоззрению?
-какие ценности могут быть найдены в медиатексте?
Согласно авторской концепции фильма, главная ценность в мире – свобода и демократия.
-какие ценности воплощены в персонажах?
Звезда балета Родченко – своего рода символ стремления русских нон-конформистов к свободе и демократии. Особенно ярко это показано в фильме в хореографическом этюде М.Барышникова под песню В.С.Высоцкого «Кони привередливые». Зато полковник КГБ (Е.Сколимовский) – не менее яркий символ тоталитарного режима, подавляюшего человеческую личность.
-какие ценности преобладают в финале?
Финал фильма, когда персонажу М.Барышникова удается сбежать от агентов КГБ через советско-финскую границу, можно рассматривать, как триумф (локальный, конечно) демократических ценностей Западного мира, их притягательности для положительных представителей русской нации.
-что означает иметь успех в этом мире? Как человек преуспевает в этом мире? Какое поведение вознаграждается в этом в мире?
Согласно авторской концепции «Белых ночей», успех в СССР может иметь только «идеологически выдержанный» человек, послушно находящийся на службе у тоталитарного режима.
Отметим, что методология А.Силверблэта соответствует основным подходам герменевтического анализа аудиовизуальной, пространственно-временной структуры медиатекстов. Напомним, что герменевтический анализ культурного контекста (Hermeneutic Analysis of Cultural Context) – исследование процесса интерпретации медиатекста, культурных, исторических факторов, влияющих на точку зрения агентства/автора медиатекста и на точку зрения аудитории. Герменевтический анализ предполагает постижение медиатекста через сопоставление с культурной традицией и действительностью; проникновение в логику медиатекста; анализ медиатекста через сопоставление художественных образов в историко-культурном контексте. Таким образом, предмет анализа - система медиа и ее функционирование в обществе, взаимодействие с человеком, язык медиа и его использование.
Восстановим в памяти динамику пространственно-временного аудиовизуального образа одного из кульминационных эпизодов «Белых ночей».
…Главный герой – танцовщик-эмигрант Николай Родченко волею судьбы встречается со своей бывшей партнершей и возлюбленной балериной Ивановой. Они стоят на сцене. Театр пуст, зрительный зал едва освещен. Николай говорит Ивановой горькие слова о конформизме, о том, как всей «храбрости» многих интеллигентов хватает лишь на то, чтобы слушать «крамольные» песни Высоцкого. А для него – тесен спертый воздух. Ему нужна Свобода – духа, творчества, жизни… Николай включает магнитофонную запись с песней Владимира Высоцкого «Кони привередливые» и начинает танцевать. Камера приближается к лицу Ивановой. В ее глазах появляются слезы…
Весь танец Родченко построен на изломах, резких движениях, попытках преодоления опасностей, трудностей, противодействии. Как бы вторя тревожным, импульсивным музыке и стихам Высоцкого, он танцует словно на краю пропасти… Герой вкладывает в этот танец всю свою боль, которую он испытал из-за разлуки с Родиной, из-за клеветы, лжи, человеческой зависти и злобы…
В этом эпизоде авторы удачно используют хореографию, которая метафорически отражает психологическое состояние героя, его душевное смятение, надлом, стремление к свободе во что бы то ни стало. И песня В.С.Высоцкого выбрана тут не случайно. Высоцкий не захотел стать эмигрантом (хотя у него было для этого много возможностей), однако власти все равно не заставили его быть приспособленцем, послушным искателем официальных наград и почестей… Судьба Высоцкого и судьба Родченко становятся для звезды балета Ивановой укором. Ведь она предпочла тихую и покорную жизнь, изменив тем самым настоящей свободе…
Но героиня плачет не только поэтому. Ведь она была влюблена в Родченко. И ей трудно было смириться с тем, что он выбрал свободу в Америке, по сути, пожертвовав ее любовью. Поэтому конфликт между стремлением к свободе, воле, независимости и пропастью лжи, конформизма окрашен здесь драматизмом невозвратимых утрат, потери любви… И еще: хотя в этом эпизоде Иванова не танцует, в ее движениях, как и у Родченко, есть свой музыкально-пластический ритм. Только если у Родченко – отчаянный, надрывный вихрь неукротимой энергии, то у Ивановой – грустная мелодия любовного романса…
Конечно, при анализе аудиовизуального медиатекста важно не «выхватывать» так называемые «выразительные средства» из контекста всего произведения, а попытались воссоздать более или менее целостную картину своих ощущений и впечатлений, обозначить взаимосвязь психологических состояний персонажей, конфликтов, диалогов и т.д. с изобразительным, музыкальным решением, с композиционными задачами и всем образным строем произведения.
В частности, стоит обратить внимание на то, что авторы «Белых ночей» даже чисто визуальными, светотеневыми средствами передают зрителям напряженную, конфликтную атмосферу действия: в полумраке пустого театрального зала световой поток высвечивает фигуру танцора, и весь его танец построен на цветовых контрастах (черное, желтое, белое) и противостоянии света и тьмы…
В неистовом танце Родченко столько энергии, силы, упрямства, что возникает ощущение, что он сумеет выбраться из любой западни судьбы. Казалось бы, всё вокруг говорит о безысходности, бесперспективности: Родченко находится в цепких лапах спецслужб, его любимая женщина предпочла смириться… Из окна видны зловещие силуэты охраны... На экране руки главного героя... Пальцы сживаются в кулак… Вся его фигура напрягается для отчаянного прыжка… И вот уже камера передает ощущение его полета… Родченко словно парит над сценой в грандиозном прыжке…
Примерно так в словесной форме может осуществляться аналитическое «восстановление» медийной репрезентации - увиденного и услышанного потока звукозрительных образов, в том числе: в светоцветовом решении, мизансцене, в актерской пластике и мимике, в использовании отдельных деталей. Таким образом, трактуется не только психологическое и эмоциональное, но и аудиовизуальное, пространственно-временное содержание художественного образа в данном эпизоде, его кульминационный смысл, когда авторы пытаются выразить свои чувства и мысли о цели человеческой жизни, о цене независимости, об истоках творчества, о свободе, которая приходит к человеку через преодоление как внешнего Зла, так и собственного малодушия.
При этом интересно проследить, как происходит развитие динамики аудиовизуального, пространственно-временного образа (в том числе – метафоричности хореографической композиции на музыку В.Высоцкого). Кроме того, специфика сюжета «Белых ночей» (главные герои которых – артисты, танцовщики, а действие по большей части происходит в здании театра) позволяет задуматься над взаимосвязью экранного медиатекста с музыкой, хореографией, театром. К примеру, в спектакле при всем сходстве (диалоги, костюм героя, музыка, хореография) отсутствие монтажа и системы планов, движений камеры, скорее всего, привело бы к форсированной актерской мимике к словесному дополнению диалогов, к броским и контрастным эффектам освещения, с помощью которых режиссер сумел бы внятно донести до зрительно зала свой замысел…
Так между экраном и нашим зрительским опытом (жизненным и эстетическим) устанавливались ассоциативные связи; эмоциональное сопереживание персонажам, авторам медиатекста происходит сначала на базе интуитивного, подсознательного восприятия динамики аудиовизуального, пространственно-временного художественного образа эпизода. Затем идет процесс его анализа и синтеза - выявление значений кадров, ракурсов, планов и т.д., их обобщение, соединение, осмысление неоднозначности, выражение к этому своего личного отношения…
В итоге, быть может, вопреки, первоначальному сценарному замыслу образ России в фильме Т.Хэкфорда «Белые ночи» не во всем укладывается в стереотипные идеологические рамки «Империи Зла». В этой стране есть талантливые, любящие, страдающие люди, стремящиеся осуществить себя в творчестве, способные бросить вызов конформизму…
То есть от более-менее линейной трактовки начальной схемы повествования мы приходим к ассоциативной, полифонической. События, характеры героев, изобразительное, музыкальное решение воспринимаются в единой связи, целостно.
Впрочем, не стоит забывать, что один и тот же медиатекст может иметь множество трактовок у разных слоев аудитории, что еще раз подтверждает правоту У.Эко: «Тексты, нацеленные на вполне определенные реакции более или менее определенного круга читателей (будь то дети, любители «мыльных опер», врачи, законопослушные граждане, представители молодежных «субкультур», пресвитерианцы, фермеры, женщины из среднего класса, аквалангисты, изнеженные снобы или представители любой другой вообразимой социо¬психологической категории), на самом деле открыты для всевозможных «ошибочных» декодирований»
[Эко, 2005, с.19]. Так что было бы неправомерно настаивать на истинности собственной трактовки любого медиатекста.
3.Образ России на западном экране: современный этап (1992-2010)
3.1.Медийные мифы пост-коммунистических времен(1992-2010)
Посткоммунистическая эпоха также породила немало мифов на так называемом «бытовом уровне».
Миф первый: после распада СССР западный экран престал создавать из России образ врага.
Даже поверхностный взгляд на фильмографию времен 1992-2010 годов (см. приложение) легко опровергает этот тезис.
Миф второй: после распада СССР западный кинематограф резко снизил свой интерес к российской тематике.
На деле число западных фильмов о России и с русскими персонажами даже увеличилось (см. таблицы в приложении): если с 1946 по 1991 год на Западе в среднем выпускалось 12 фильмов на русскую тему, то с 1992 по 2010 год эта цифра достигла уже 14-ти…
Миф третий: в западных фильмах постсоветского периода Россия всегда ассоциировалась с русской мафией, алкоголизмом, проституцией и разрухой.
Здесь опять-таки медиатекст медиатексту рознь. Да, такого рода образ России продолжает культивироваться в большинстве западных фильмов, но есть немало примеров и иного рода…
3.2.Краткая история трансформации российской тематики на западном экране: 1992-2010 годы
Распад СССР, начало радикальных экономических реформ в России 1992 года, как известно, сопровождалось колоссальным падением жизненного уровня населения, что не могло не вызвать роста преступности и массовой эмиграции. Российский экран отреагировал на это всплеском так называемой «чернухи». В западных трактовках русской темы 1992-1993 годов сказался инерционный период кинопроизводства – на кино/телеэкраны вышли обращенные к историческим событиям прошлого «Сталин» (1992) И.Пассера и «Ветер с Востока» (1993) Р.Энрико, где с большей или меньшей степенью бытовой достоверности авторы размышляли о природе советского тоталитаризма (еще один пример такого рода – сильная психологическая драма о временах сталинского террора «Восток-Запад» Р.Варнье, вышедшая на экрану уже в конце 1990-х).
Пожалуй, первыми американскими фильмами, попытавшимися уйти от традиционного антисоветизма или снисходительного сочувствия к перестройке стали «Пленник времени» (1992) М.Левинсона и «Маленькая Одесса» (1994) Дж.Грея.
Намерения американского режиссера М.Левинсона были, по-видимому, самые благие. Ему хотелось рассказать о драме русского художника, оказавшегося в США. Тот хотел продавать свои нон-конформистские полотна, но в 1990-х владельцев американских галерей уже не интересовали диссидентская отвага главного персонажа и его политически ангажированная живопись, протестующая против советской тоталитарной системы...
Замысел фильма был хорош, но воплощение... Увы, невнятная приблизительность драматургии ленты не давала шансов актерам создать мало-мальски живые характеры. Вот и сыграли они как в плохом самодеятельном спектакле: форсированные жесты, нестерпимо фальшивые интонации... В итоге «Пленник времени» (авторы явно намекали на строчку Б.Л.Пастернака «У времени в плену») оказался неимоверно скучным зрелищем. И, наверное, нужно было быть большим любителем слов «perestroika» и «Russian vodka», чтобы получить хоть какое-то удовольствие от этого опуса наших заокеанских братьев по разуму...
Что касается «Маленькой Одессы» (1994) Дж.Грея, то она оказалдась знаменательна тем, что в ней обозначились растиражированные в последующие десятилетия мотивы потенциальной опасности русских эмигрантов, в конце 1980-х – начале 1990-х хлынувших в США и Европу, поскольку именно они, якобы, и становились во главе наркомафии и новых гангстерских банд (см., к примеру, «Точка падения» (1996), «Дайвер» (2000), «Каменное сердце» (2000), «15 минут» (2001), «Повелитель войны» (2005) Э.Никола, «Рокэвэй» (2007) братьев Круков, «Ночь принадлежит нам» (2007) Дж.Грея, «Заточен на убийство» (2009) Дж.Кинга и др.).
Еще одна ходовая тема западного кино о постсоветских временах – «женский экспорт». Иногда это комедии («Русская невеста», 2007), иногда – драмы («За океаном» (2000), «Русская невеста», 2001, «Лиля навсегда», 2002, «Сестра Катя», 2008). Иногда нечто в смешанном жанре («Русская кукла», 2001, «Именинница» (2001). Но суть стереотипов от этого не меняется – русские девушки/женщины на западном экране – в основном либо несчастные жертвы российской разрухи/бедности и (сексуального) насилия, либо проститутки, либо расчетливые хищницы, эмигрирующие на Запад с целью воспользоваться браком с обеспеченными мужчинами.
Правда, иногда западный экран как бы вспоминал старые мелодраматические комедии 1950-х годов, где очаровательные советские женщины, состоящие на службе в КГБ, влюблялись в симпатичных американских офицеров. К примеру, в таком своего рода ретро-ключе была поставлена романтическая комедия «Ночная история» (1999), где агент ЦРУ в исполнении Б.Пулмэна влюблялся в агента ФСБ Наташу, обаятельно сыгранную французской звездой И.Жакоб…
Весьма характерен для современной трактовки Западом образа России американский детектив «Гражданин Х» (1995) К.Джеролмо - мрачный рассказ о преступлениях сексуального маньяка и убийцы А.Чикатило. СССР/Россия 1980-х - 1990-х, представленная в этой довольно примитивной в художественном отношении картине, - «сплошная зона чудовищной нищеты, что-то вроде отсталой африканской страны, охваченной гражданской войной, Либерии, Сьерра-Леоне или Эфиопии. По улицам Ростова ходят голодные изможденные граждане, готовые за еду или выпивку на что угодно. Сам Ростов – большой богатый портовый город – в фильме изображен как мелкий городишко, недавно, видимо, переживший бомбардировку. … В реальном Ростове одевались не хуже, а, возможно, лучше, чем в Москве (хотя и безвкуснее, с «провинциальным шиком»), но в фильме «Гражданин Икс» местные жители одеты просто как нищие, как раскулаченные времен коллективизации или китайцы времен «народных коммун» и «большого скачка»! Бедность советского населения преувеличена до невероятного: у сотрудников милиции нет пальто (!) – и они вынуждены, если похолодает, надевать служебную шинель. Одеты все по моде если не 30-х, то 40–50-х годов (это касается и высокооплачиваемой части населения). Одеждой дело не ограничивается. Интерьеры и экстерьеры зданий тоже взяты из 40–50-х годов. По улицам Ростова ездят машины 50-х годов, телефоны у сотрудников милиции – вообще довоенного образца!» [Тарасов, 2001]. Забегая вперед, отмечу, что в 2004 году, уже в Италии, сняли еще один мрачный фильм о преступлениях Чикатило – «Эвиленко» (2004). На сей раз его сыграл демонический Малколм МакДауэлл…
Естественно, западный кинематограф 1990-х годов интересовали не только российские сексуальные маньяки. В значительно большей степени «плохими парнями» становились российские военные и представители «русской мафии», нередко поданные в «одном флаконе». Так в «Бегущем красном» (1999), например, безжалостные российские спецназовцы, эмигрировав в США, становятся во главе крупнейшего мафиозного клана… В «Трассибирском экспрессе» (2008) главным злодеем оказывается российский майор милиции - «оборотень в погонах», решивший уничтожить мирных американских туристов…
Очередной продукт «бондианы» «Золотой глаз» (1995) обострил тему российской военной агрессии по отношению к Западу. В прежних сериях суперагент Джеймс Бонд боролся в основном не с русскими, а с агентами тайной злодейской организации «Спектр». «Этот «Спектр» постоянно пытался столкнуть СССР и США, чтобы спровоцировать третью мировую войну, но Бонд всякий раз оказывался расторопнее и не позволял ястребам-идиотам из двух сверхдержав нажать на ядерную кнопку… «Золотой глаз» начинается с того, что Бонд организует крупную диверсию на территории СССР. Уже в перестроечные годы! Солдатиков-салаг в советской форме он выкашивает повзводно. Через несколько лет Бонд попадает в современную Россию. Но она выглядит в фильме отнюдь не демократической, а маразматической и опасной: русские генералы-мафиози, владеющие кодами секретного космического оружия, стремятся спалить Лондон. Зачем? Чтобы парализовать мировую банковскую систему и, пользуясь неразберихой, наворовать миллиарды долларов. Ой, ну да ведь это бондиана! Любой грамотный зритель в любой стране с ходу догадается, что это стеб. Ага, как же, догадается! В какой-то момент стебно-условный стиль улетучивается без остатка, и идут серьезные рассуждения о том, что советская империя, распавшись, стала еще более непредсказуемой и опасной. Прав вояка Бонд, не доверяя русским: именно от них исходит угроза цивилизации и порядку»
[Гладильщиков, 1997].
После «Золотого глаза» (1995) за российскую тему всерьез взялись ведущие голливудские студии. В «Президентском самолете» (1997) В.Петерсена с русскими бандитами сражается сам американский президент. В «Святом» (1997) Ф.Нойса Россия уже полностью захвачена тоталитарной мафией, с которой может справиться только герой типа Супермена/Бэтмена…
Еще дальше пошли авторы боевика с характерным названием «Сумма всех страхов» (2002). По ходу сюжета этой ленты после внезапной смерти относительно миролюбивого российского президента новые кремлевские власти не нашли ничего лучшего, чем… взорвать атомный заряд на территории США, мгновенно уничтожив тысячи человек…
Но если жанр «Золотого глаза» можно считать условно пародийным, а «Святого» и «Суммы всех страхов» - частично фантастическим, то в «Миротворце» (1997) тема безудержной агрессии русских развивалась уже «на полном серьезе»: «русский националист-генерал (по совместительству бандит, связанный как с нашей мафией в Европе, так и с боснийцами) похищает десять ядерных боеголовок... Чтобы скрыть факт похищения, генерал - с помощью своих псов-убийц - истребляет целый взвод охраны, затем организует столкновение перевозившего боеголовки состава с пассажирским поездом (куча жертв) и вдобавок устраивает посреди России ядерный взрыв... В современной России состав с ядерными боеголовками тащит не электровоз и не тепловоз, а паровоз с трубой и топкой образца 1913 года» [Гладильщиков, 1997].
В таком же духе были поставлены боевики и триллеры «Максимальный риск» (1996), «Стиратель» (1996), «Шакал» (1997), «Меры борьбы» (1999) и т.п. К примеру, в «Танце на лезвии ножа» (2001) американские полицейские проникают в русскую банду, которая собирается – ни больше, ни меньше - взорвать ядерную бомбу в центре Нью-Йорка…
В меньшей степени, чем в «пиковые» 1950-е годы, но все-таки достаточно заметно в постсоветские времена предствлена на западных экранах и фантастическая «россика». Увы, сюжеты здесь также пророссийскими не назовешь. Вот, к примеру, фабула «Ярости» Р.Картцмэна: безумный русский доктор (А.Дивов) экспериментирует с новыми смертоносными вирусами, которые превращают людей и птиц в кровожадных мутантов...
Западные комедии 1990-х – 2000-х годов также не обошлись без маниакально-мафиозных акцентов: в фильме расторопного продюсера и режиссера М.Голана «Русская рулетка – Москва-95»(«Московская связь») столичная мафия убивает честных бизнесменов, милиция бессильна, и только разъяренные вдовы не дремлют, – одного за другим они кастрируют мерзких бандитов… Конечно, такого рода фривольную комедию, изобилующую сексуальными сценами, наверное, не взялась бы снимать ни одна «политкорректная» крупная голливудская студия, но фильм был профинансирован немецкой фирмой, а в Германии, как известно, цензурные ограничения куда либеральнее… При этом комедийный жанр нисколько не мешал «Русской рулетке» (как, впрочем, и другой пошловатой комедии «Полицейская академия: миссия в Москве») эксплуатировать стереотипные представления Запада о новой России: разгул преступности, коррупции, проституции, беззащитность мирного населения, бурный выхлоп дремавшей под спудом коммунистических запретов сексуальной энергии…
Однако и здесь было не все так просто. К примеру, в 1994 году был снят триллер «Пуля в Пекин» Дж.Михалки с М.Кейном в главной роли. Он снимался в Санкт-Петербурге, а его герои боролись с чеченской мафией. Однако в декабре 1994 года началась первая чеченская война, Запад тут же стал активно сочувствовать «благородным борцам за свободу и независимость», поэтому показывать «плохих чеченцев» стало неполиткорректно. В итоге фильм был лишен широкого экрана в США и Европе… Немногим лучше сложилась и судьба его продолжения – триллера «Полночь в Санкт-Петербурге» (1996)…
Думается, одним из самых запоминающихся западных фильмов о русских бандитах стал триллер «Пятнадцать минут» (2001), по сюжету которого два славянских отморозка (одного из них убедительно сыграл российский спортсмен и актер О.Тактаров) прилетают в Нью-Йорк и получают свои «15 минут славы», пытая и убивая полицейского (одна из лучших драматических ролей в карьере Р. Де Ниро), одновременно записывая этот «сюжетец» на видеокамеру…
Но, наверное, самый сложный и неоднозначный образ главы русской мафии удалось создать
А.Балуеву в швейцарской драме
«Переводчица» (2006). Его персонаж далек от западных стереотипов и наполнен психологической глубиной и подтекстами чуть ли не в духе Достоевского…
Как уже отмечалось, западная кинопродукция о русских бандитах стартовала в 1990-х. Однако именно в 2000-х она достигла своего пика. Жестокие российские гангстеры и мафиози, часто в нелепом, совершенно неправдоподобном исполнении западных актеров («Восточные обещания»/«Порок на экспорт» Д.Кроненберга, где русских гангстеров, обосновавшихся в Лондоне, пытаются изобразить французы) стали своего рода знаковыми персонажами на экранах США и Европы.
Конечно, «жанру боевика необходим образ врага. Чем удобны Голливуду Россия и русские? … Всем! Россия - далеко, к тому же не так сильна и не так амбициозна, как прежде. Далее: русские, что очень важно, белокожие. Голливуд (особенно после лос-анджелесских событий) опасается изображать злодеями латино-, афроамериканцев или выходцев из Юго-Восточной Азии, которые составляют значительную часть населения и (кстати!) зрительской аудитории. Удобно и то, что русское лобби в Америке себя почти не проявляет. Если Голливуд обижает в боевиках какие-нибудь другие нации (можно припомнить недавние случаи с арабами и японцами), то у кинотеатров тут же выстраиваются пикеты. Русские же не бузят»
[Гладильщиков, 1997].
Вместе с тем, стоит прислушаться и к мнению С.В.Кудрявцева: «то, что в конце концов (до этого поиграв вместе с нами какое-то время в игры под названиями perestroyka, glasnost’ etc.) американцы благополучно вернулись к привычному образу врага из России (и теперь им уже не надо глупо путать USSR и Russia), в большей степени подтверждает вовсе не их ненависть или просто неприязнь к русским. Помимо чисто утилитарных коммерческих задач (что ни говорите - любой веками проверенный драматургический конфликт срабатывает безошибочно, один давний соперник лучше новых двух), янки вольно или невольно выказывают нам свое уважение, выбирая в единственно достойных и по-прежнему угрожающих противников. Чего им бояться какой-то Японии или Германии, которые к тому же были биты на полях подлинных сражений. А с Россией напрямую схлестнуться не удалось - да и не приведи Господь! Лучше драться в кино, устраивать лихие «звездные войны», стычки в воздухе, на воде и на суше. И можно в собственное удовольствие и без последствий «оттянуться», послав к такой-то матери всю эту пресловутую политкорректность. Благодаря чему добиться большого успеха... и вызвать излишне психованную реакцию у вдруг возжелавших исконного патриотизма российских критиков» [Кудрявцев, 1999].
Вместе с тем, в отличие от периода 1946-1991 годов, западные фильмы на российскую тему в 1992-2010 подпитывались не только конфронтационными сюжетами (военное противостояние, шпионаж, мафия и пр.), но и удовлетворением интересов значительно выросшей диаспоры русскоязычных эмигрантов, делегировавшей своих представителей в американский и европейский кинобизнес. Все это не могло не сказаться на постоянном присутствии «россики» в западном (прежде всего – в американском) кинопроизводстве. Отсюда, например, понятно, почему во многих американских сериалах, действие которых происходит в США, хоть в одной серии, да и появляется русский персонаж–эмигрант или приехавший в Америку по какой-то надобности россиянин (самый заметный тому пример – появление русского героя М.Барышникова в суперпопулярном американском сериале «Секс в большом городе»). При этом, слава Богу, это далеко не всегда шпион, гангстер или алкоголик.
В XXI веке за русскую тему взялись два знаменитых западных мастера арт-хауса – Питер Гринвей («Чемоданы Тулса Лупера». Ч.3, 2003) и Йос Стеллинг («Душка», 2007). И в том, и в другом фильме мэтры затеяли причеобразную игру со своими любимыми творческими мотивами, наложенными на ироническое осмысление стереотипных образов России. Но, на мой взгляд, и в том, и в другом случае большие мастера (особенно П.Гринвей) так и остались в плену расхожих западных представлений о России, поставив не самые лучшие в своей творческой карьере фильмы…
Само собой, главные роли в мегабюджетных блокбастерах с «российскими мотивами» играют знаменитые американские актеры – Х.Форд, В.Килмер, Дж.Клуни, Н.Кидмэн и др. Зато, как и в «Золотом глазе», в «Президентском самолете» и «Святом» проявилась новая для западного экрана тенденция – на второстепенные и эпизодические роли приглашать не только «своих» славянских эмигрантов, но и актеров из самой России. Так, в «Святом» блеснули Валерий Николаев и Ирина Апексимова, причем, в заметных ролях, и ничуть не уступая западным звездам – ни в экстравагантном имидже, ни в пластическом рисунке…
Впрочем, участие российских звезд В.Машкова, Ч.Хаматовой, В.Николаева, А.Балуева, Н.Андрейченко, Е.Редниковой, Е.Сафоновой в западном кино не стоит преувеличивать - каждый из них снялся от силы в десятке западных фильмов. Настоящую киноармию «агентов влияния» в Голливуде в 1990-х – 2000-х составляли не они, а сотни прочно осевших в США и Западной Европе российских эмигрантов, приехавших туда за последние двадцать лет. Многие из них почти неизвестны в России, однако списки американских и западноевропейских фильмов с их участием выглядят весьма внушительно: у Ильи Волока – 100 фильмов, у Андрея Дивова – 90. Далее идут: Илья Баскин (он старожил Голливуда, работает там с 1970-х годов) – 70 фильмов, Лариса Ласкина – 60,
Геннадий Венгеров – 50, Дмитрий Дятченко, Равиль Исянов, Евгений Лазарев, Павел Лыщиков, Евгений Ситохин, Иван Шведов, Дмитрий Шеповетский – свыше 40 фильмов. Дмитрий Бородин,
Светлана Ефремова, Максим Ковалевский, Алла Корот, Михаил Хмуров – более 30. Григорий Мануков,
Олег Тактаров, Антон Яковлев, – свыше 20.
Конечно, они снимаются в основном в сериалах, играя эпизодические роли «плохих русских» (не даром словосочетание «русская мафия» встречается а аннотациях IMDB - международной интернетной базы данных фильмов - целых 108 раз!), однако на их счету есть и заметные роли в крупных проектах. Некоторым из русских эмигрантов (
А.Невский, Р.Нахапетов) в 1990-х – 2000-х удалось наладить в США собственное кинопроизводство (как правило, это развлекательные боевики и триллеры типа «Охотников за сокровищами»), так или иначе связанное с российской тематикой.
3.3. Кинематографические стереотипы российской темы на западном экране в современную эпоху (1992-2010 годы)
Контент-анализ западных фильмов на российскую тему, созданных в период с 1992 по 2010 годы позволяет представить их основные сюжетные схемы следующим образом:
- ретро: преступления советской власти в период с 1917 по 1991 годы (тоталитарная диктатура, концлагеря, военная агрессия против иных стран, шпионаж и пр.);
- современность: беспомощность и коррупционность российских властей, которые не могут наладить экономику, контролировать скопившиеся запасы вооружения и бороться с преступностью: постсоветская Россия – страна мафии, бандитов, террористов, проституток, нищих, обездоленных, несчастных людей;
- русские эмигрируют на Запад в поисках лучшей жизни (женитьба/замужество, проституция, преступная деятельность).
Структура стереотипов западных фильмов на российскую тему драматического жанра
исторический период, место действия: любой отрезок времени, Россия, СССР, США, другие страны.
обстановка, предметы быта: скромные жилища и предметы быта российских и/или советских персонажей, роскошные жилища и предметы быта западных персонажей.
приемы изображения действительности: реалистичное или условно-гротескное изображение жизни людей.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: положительные персонажи – носители демократических идей; отрицательные персонажи – носители антигуманных, террористических, милитаристских идей. Персонажей часто разделяет не только социальный, но и материальный статус. Российские персонажи нередко показаны грубыми и жестокими тапами, с примитивной лексикой, вечно нахмуренными лицами, активной жестикуляцией и неприятными голосовыми тембрами.
существенное изменение в жизни персонажей: отрицательные персонажи собираются воплотить в жизнь свои антигуманные идеи (например, террористический акт или иное преступление).
возникшая проблема: жизнь положительных персонажей, как, впрочем, и жизнь целых народов/стран под угрозой.
поиски решения проблемы: борьба положительных персонажей с отрицательными.
решение проблемы: уничтожение/арест отрицательных персонажей, возвращение к мирной жизни.
Ветер с востока / Vent d'est. Франция, 1993. Режиссер Р.Энрико.
исторический период, место действия: Княжество Лихтенштейн, май 1945.
обстановка, предметы быта: ухоженные улицы и благоустроенные дома Лихтенштейна; скромный быт солдат и офицеров Первой русской национальной армии (воевавшей на стороне Третьего Рейха), пытающейся найти защиту от наступающих советских войск после поражения нацисткой Германии.
приемы изображения действительности: реалистичные, стремящееся к документальной объективности.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: солдаты и офицеры русской национальной армии (особенно их генерал Б.А.Смысловский в колоритном исполнении М.МакДауэлла), изображенные в целом позитивно, – это честные воины, со скупыми лексикой, жестами и мимикой; и члены княжеской семьи, правительства Лихтенштейна – потомственные аристократы, с сочувствием относящиеся к стремлению отряда Смысловского уйти от репрессий большевиков.
существенное изменение в жизни персонажей: руководство советской армии требует от правительства нейтрального Лихтенштейна выдачи солдат и офицеров Первой русской национальной армии как изменников Родины.
возникшая проблема: жизнь положительных персонажей – солдат и офицеров Первой русской национальной армии - под угрозой.
поиски решения проблемы: руководство Лихтенштейна вступает в переговоры с представителями СССР.
решение проблемы: положительные персонажи, не пожелавшие добровольно сдаться советской армии, остаются под защитой Княжества Лихтенштейн, не уступившего давлению со стороны СССР.
Враг у ворот / Enemy at the Gates. США-ФРГ-Великобритания, 2001. Режиссер Ж.-Ж.Анно.
исторический период, место действия: СССР 1942-1943 годов, Сталинград.
обстановка, предметы быта: скудный фронтовой быт, остатки разрушенных войной городских строений.
приемы изображения действительности: квазиреалистичные, сохраняющие видимость документальной объективности (при этом в отношении изображения формы и быта советских солдат допущено множество искажений и нелепостей).
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: советские и нацистские солдаты и офицеры. Их разделяет идеологический статус. Нацисты – профессиональные, умные и честные военные, их речь, мимика и жесты соответствуют армейскому уставу. Их советские противники меньше считаются с уставом, суровые советские офицеры расстреливают отступающих солдат. Немецкая армия дисциплинирована и хорошо организована (танки, самолёты, мотоциклы, различные виды стрелкового оружия). У советской армии всего этого явно мало, зато отчетливо показано, как солдат в виде «человеческого мяса», гонят на бойню безжалостные начальники…
существенное изменение в жизни персонажей: положение советских войск критическое, им пришлось отдать нацистам половину города…
возникшая проблема: советская армия может проиграть битву на Волге.
поиски решения проблемы: советские войска мобилизуют все силы для победы, снайпер Зайцев точными выстрелами уничтожает врагов.
решение проблемы: советская армия побеждает немецкую, а снайпер Зайцев убивает главного нацистского аса снайперского дела…
К-19 / K-19: The Widowmaker. Великобритания-США-ФРГ-Канада, 2002. Режиссер К.Бигелоу.
исторический период, место действия: 1961 год, океан.
обстановка, предметы быта: служебные отсеки и каюты подводной лодки.
приемы изображения действительности: реалистичные, сохраняющие документальную объективность.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: командир советской атомной подлодки К-19, его экипаж. Командир обаятелен, умен, честен, одет в военную форму, у него правильная речь, мимика и жесты соответствуют канонам военного моряка. Его подчиненные также одеты в военную форму, это профессионалы своего дела.
существенное изменение в жизни персонажей: в одном из отсеков подлодки происходит авария, происходит утечка радиации.
возникшая проблема: экипажу подлодки нужно во что бы то ни стало ликвидировать аварию.
поиски решения проблемы: командир подлодки и его экипаж пытаются справиться с аварией самостоятельно, не прибегая к помощи американского подводного флота.
решение проблемы: героизм советских подводников позволяет им ликвидировать последствия аварии.
Структура стереотипов западных фильмов на российскую тему жанра триллера или детектива
исторический период, место действия: любой отрезок времени, Россия, СССР, США, другие страны.
обстановка, предметы быта: скромные жилища и предметы быта советских персонажей (или несколько получше, если речь идет о современной России), роскошные жилища и предметы быта западных персонажей (однако, находясь на территории враждебной страны, шпионы приспосабливаются к жилищным и бытовым условиям противника).
приемы изображения действительности: как правило, несколько гротескное изображение жизни людей во «враждебных государствах».
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: положительные (сотрудники контрразведки, разведчики/шпионы, диверсанты, мирные граждане) и отрицательные (те же лица, правда, кроме мирных граждан, плюс террористы, преступники, бандиты, маньяки). Разделенные идеологией и мировоззрением или без акцентирования оного, персонажи, как правило, обладают крепким телосложением и выглядят согласно установкам источника медиатекста: шпионы и преступники могут на какое-то время (до разоблачения, например) выглядеть симпатично, но затем обязательно обнаружат свою мерзкую сущность... Российские отрицательные персонажи показаны грубыми и жестокими, с примитивной лексикой, нахмуренными лицами, активной жестикуляцией и неприятными тембрами голосов...
существенное изменение в жизни персонажей: отрицательные персонажи совершают преступление (террористически акт, шпионаж, шантаж, кража государственных секретов, убийства и пр.).
возникшая проблема: нарушение закона.
поиски решения проблемы: расследование преступления, преследование отрицательных персонажей.
решение проблемы: положительные персонажи разоблачают/ловят/уничтожают отрицательных.
Гражданин Х / Citizen X. США, 1995. Режиссер К.Джеролмо.
Эвиленко / Evilenko. Италия, 2004. Режиссер Д.Гриеко.
исторический период, место действия: СССР/Россия 1980-х-начала 1990-х годов.
обстановка, предметы быта: невзрачные улицы, скромные жилища, учреждения и предметы быта российских и/или советских персонажей.
приемы изображения действительности: псевдообъективное, но на деле гротескное изображение жизни людей в СССР/России: нищета, голодные изможденные граждане…
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: отрицательный персонаж – серийный маньяк (прообразом которого стал убийца десятков несовершеннолетних А.Чикатило); положительные персонажи – сотрудники милиции. Персонажи одеты серо, невзрачно.
существенное изменение в жизни персонажей: серийный маньяк терроризирует жизнь южного города, насилуя и убивая несовершеннолетних девушек.
возникшая проблема: многолетние безрезультатные поиски маньяка ставят под угрозу репутацию советской/российской милиции и держат в страхе тысячи мирных людей.
поиски решения проблемы: положительные персонажи пытаются найти маньяка.
решение проблемы: серийный маньяк найден и арестован…
Энтони Циммер / Anthony Zimmer. Франция, 2005. Режиссер Ж.Салль.
исторический период, место действия: Франция 2000-х годов.
обстановка, предметы быта: улицы, апартаменты отелей французских городов.
приемы изображения действительности: нейтрально-корректные по части изображения положительных персонажей; гротеск по отношению к персонажам отрицательным; обстановка, интерьеры выглядят вполне реалистично.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: отрицательные персонажи – представители русской мафии; положительные персонажи – агенты интерпола. Все персонажи одеты в добротную модную одежду. Объединяет их сдержанность проявления чувств и мыслей. Среди положительных персонажей выделяется обворожительная красавица Кьяра в исполнении Софии Марсо.
существенное изменение в жизни персонажей: русская мафия и связанный с ней неуловимый Энтони Циммер, по-видимому, хочет прибрать к рукам весь Лазурный берег Франции…
возникшая проблема: спокойная курортная жизнь французов в Ницце под угрозой. Поймать пособника русской мафии – неуловимого Циммера трудно. Помимо всего прочего он еще и пластическую операцию себе сделал…
поиски решения проблемы: французская полиция и интерпол пытаются выйти на след Циммера и русской мафии…
решение проблемы: только красавице Кьяре под силу справиться с русской мафией, что и происходит в финале фильма…
Транссибирский экспресс / Transsiberian. Великобритания-ФРГ-Испания-Литва, 2008. Режиссер Б.Андресон.
исторический период, место действия: Россия, XXI век.
обстановка, предметы быта: купе и коридоры транссибирского поезда, вокзал, сибирская тайга, гостиничный номер.
приемы изображения действительности: бытовая обстановка и все персонажи изображены вполне реалистично, хотя и с некой долей условности и гротеска.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: положительные персонажи – молодая супружеская пара американцев, которые едут на транссибирском поезде с Дальнего Востока в Москву, они одеты в добротную одежду. Отрицательные – их (как потом выясняется) криминальный попутчик и коварный милиционер Гринько.
существенное изменение в жизни персонажей: Американка, не желая подвергнуться насилию, убивает своего криминального попутчика, связанного с наркомафией. Чуть позже жестокий Гринько хочет убить беззащитных американцев...
возникшая проблема: жизнь американцев под угрозой.
поиски решения проблемы: американцы пытаются выжить в дикой варварской России.
решение проблемы: американцам удается вырваться из лап милиционеров-мафиозников и добраться сначала до Москвы, а потом до США.
Структура стереотипов западных фильмов на российскую тему жанра action (боевиков)
исторический период, место действия: любой отрезок времени, Россия, СССР, США, другие страны.
обстановка, предметы быта: скромные жилища и предметы быта российских/советских персонажей (если они, конечно, не мафия и не коррумпированные чиновники), роскошные жилища и предметы быта западных персонажей (если последние, конечно, находятся на Западе, а не на территории России/СССР), унифицированные фактуры военных объектов – баз, кабин самолетов и танков, палуб военных кораблей, отсеков подлодок.
приемы изображения действительности: как правило, условно-гротескное изображение жизни людей во «враждебных государствах».
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: положительные персонажи (военные любых родов войск, мирные граждане) – носители демократических идей; агрессоры (военнослужащие, диверсанты, террористы) – носители антигуманных идей. Разделенные идеологией и мировоззрением, или без акцента на оные, персонажи, как правило, обладают крепким телосложением и выглядят согласно установкам источника медиатекста: в западных фильмах российские/советские персонажи (солдаты, офицеры) показаны грубыми и жестокими типами с примитивной лексикой, злобными лицами, активной жестикуляцией и неприятными тембрами голосов.
существенное изменение в жизни персонажей: отрицательные персонажи совершают преступление (военная агрессия, теракты, диверсии, убийства).
возникшая проблема: нарушение закона - жизнь положительных персонажей, как, нередко, и жизнь всех мирных персонажей демократической страны (в том или ином ее понимании) под угрозой.
поиски решения проблемы: вооруженная борьба положительных персонажей с вражеской агрессией
решение проблемы: уничтожение/пленение агрессоров, террористов, бандитов, возвращение к мирной жизни.
Святой / The Saint. США, 1997. Режиссер Ф.Нойс.
исторический период, место действия: Москва, 1990-е годы.
обстановка, предметы быта: московские улицы интерьеры квартир, подземные лабиринты.
приемы изображения действительности: мрачные фактуры, интерьеры, костюмы и пр. поданы в гротескном ключе. Москва выглядит темным, грязным, неприветливым городом, с нестабильным политическим режимом.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: положительные персонажи – мужественный и ловкий американец Святой и ученая-британка; отрицательные персонажи – российская мафия, состоящая из личностей малосимпатичных, хотя ловких и сильных; лексика всех персонажей незамысловата. Мимика и жесты часто утрированны.
существенное изменение в жизни персонажей: глава российской мафии некто Третьяк спрятал все запасы топлива… Он замышляет также государственный переворот…
возникшая проблема: зимние холода угрожают жизни жителям Москвы, оставшейся без тепла… Да и грядущий военно-мафиозный переворот тоже не подарок…
поиски решения проблемы: британка изобрела формулу управляемой ядерной реакции, с помощью которой может разрешиться энергетический кризис…
решение проблемы: Независимый борец за справедливость по кличке Святой, проявив чудеса героизма, спасает Россию от военно-мафиозного переворота и от энергетического кризиса…
Бегущий красный / Running Red. США, 1999. Режиссер Дж.Джейкобс.
исторический период, место действия: Испания 1980-х годов и США 1990-х годов.
обстановка, предметы быта: военная база на побережье Испании, улицы и дома в США, благоустроенный быт жизни средней американской семьи.
приемы изображения действительности: фактуры, интерьеры, костюмы и пр. изображены в реалистическом ключе.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: положительные персонажи – американская семья: отец (эмигрант из СССР, бывший десантник советского спецназа, который выдает себя за коренного американца), мать и их десятилетняя дочь; отрицательные персонажи - бывшие советские спецназовцы, обосновавшиеся в США. Последние изображены карикатурно: форсированная мимика и жесты, примитивная, грубая лексика. Советские персонажи одеты серо, невзрачно.
существенное изменение в жизни персонажей: главный герой неожиданно встречается со своими бывшими сослуживцами из советского спецназовца, ныне возглавляющими русскую мафию в США.
возникшая проблема: на главного героя оказывается психологическое давление: бывшие спецназовцы пытаются принудить главного героя убить их соперника - американского мафиози. Выбор героя не велик: стать наемным убийцей или потерять свою семью.
поиски решения проблемы: положительный герой, боясь своего разоблачения (свое прошлое и национальное происхождение он долгие годы скрывал ото всех, включая свою жену), вынужден уступить давлению своих бывших сослуживцев.
решение проблемы: положительный герой с честью выходит из сложной ситуации…
Индиана Джонс и Храм хрустального черепа / Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. США, 2008. Режиссер С.Спилберг.
исторический период, место действия: 1957 год. Северная и Южная Америка.
обстановка, предметы быта: джунгли, пустыни, военные базы, военные принадлежности (форма, оружие и пр.).
приемы изображения действительности: фактуры, интерьеры, костюмы и пр. выглядят условно, что особенно хорошо заметно в свойственных данному жанру сценах драк и перестрелок.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: положительный мужественный и непобедимый американский профессор-археолог Инидиана Джонс и отрицательные советские спецназовцы (изображенные в гротескном ключе). Лексика персонажей проста, а многих связана с армейской спецификой. Мимика и жесты персонажей часто утрированны. Одежда большинства персонажей – военная форма. Их физическое развитие явно выше среднего.
существенное изменение в жизни персонажей: Индиану Джонса захватывают в плен советские спецназовцы.
возникшая проблема: жизнь американца находится под угрозой.
поиски решения проблемы: доблестный американский профессор решает бороться с наглыми советскими десантниками.
решение проблемы: победа Индианы Джонса над советскими спецназовцами.
Структура стереотипов западных фильмов на российскую тему мелодраматического жанра
исторический период, место действия: любой отрезок времени, Россия, СССР, США, другие страны.
обстановка, предметы быта: скромные жилища и предметы быта российских/советских персонажей (если они не олигархи и мафиозные «новые русские»), роскошные жилища и предметы быта западных персонажей.
приемы изображения действительности: как правило, условно-гротескные по отношению к жизни людей во «враждебных государствах».
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: мужской и женский персонажи с контрастным идеологическим и социальным статусом или без оного. Персонажи, как правило, обладают стройным телосложением и выглядят вполне симпатично. Их одежда, лексика и мимика находятся в «среднестатистических» рамках.
существенное изменение в жизни персонажей: встреча мужского и женского персонажей
возникшая проблема: национальный, идеологический и/или социальный мезальянс, «культурный шок», взаимное непонимание.
поиски решения проблемы: персонажи преодолевают национальные, идеологические и социальные препятствия на пути их любви.
решение проблемы: свадьба/любовная гармония (в большинстве случаев), смерть, разлука персонажей (в виде исключения из правила).
Русская невеста / The Russian Bride. Великобритания, 2001. Режиссер Н.Рэнтон.
исторический период, место действия: Великобритания, Лондон, 2001 год.
обстановка, предметы быта: квартира представителя британского «среднего класса» Кристофера, лондонские улицы.
приемы изображения действительности: реалистичные, позитивные по отношению к положительным персонажам, в первую очередь – к русской жене Кристофера - Наташе.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: британские персонажи – типичные представители среднего класса, действиями которых движет расчет. Наташе трудно приспособиться к жизни в стране с иными социокультурными традициями. Основная одежда персонажей соответствует их социальному статусу – они одеты добротно, хотя и без особого изыска. Лексика персонажей проста, мимика и жесты порой форсированы.
существенное изменение в жизни персонажей: привыкшая к «бесшабашной» российской жизни Наташа выходит замуж за пожилого британца и поселяется в его лондонской квартире.
возникшая проблема: вскоре Наташа обнаруживает, что муж не испытывает к ней сексуального интереса, и что ее миссия практически не отличается от служанки: она вынуждена целыми днями готовить и убирать…
поиски решения проблемы: приятель Кристофера – безработный Эдди, ощущая ее проблемы, пытается приударить за Наташей…
решение проблемы: и тут, увы, начинаются неприятности: Наташе уже не до любовной интрижки, в живых бы остаться…
Именинница / Девушка на день рожденья / Birthday Girl. Великобритания-США, 2001. Режиссер Дж.Батерворт.
исторический период, место действия: Великобритания, пригород Лондона, 2001 год.
обстановка, предметы быта: скромная квартира банковского клерка Джона, банковский офис, лондонские улицы.
приемы изображения действительности: несколько утрированные (так как по жанру фильм представляет собой синтез мелодрамы, комедии и триллера) по отношению к положительному персонажу - Джону, смешанные - к его русской жене Наде.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: Джон показан одиноким человеком, мечтавшим о любви русской красавицы… Основная одежда британских персонажей вполне современная, без особого изыска. Надя одета подчеркнуто вульгарно. Лексика персонажей проста. Надя, вообще, поначалу способна изъясняться только форсированными жестами и мимикой. Правда, при этом (с акцентом) матерится по-русски…
существенное изменение в жизни персонажей: привыкшая к авантюрной российской жизни, связанная с русским криминалом Надя выходит замуж за британского банковского служащего Джона поселяется в его квартире в пригороде Лондона.
возникшая проблема: вскоре Джон обнаруживает, что Надя не знает ни слова по-английски, да тут еще появляются двое ее российских «родственника» с бандитскими повадками, которые заставляют Джона участвовать в ограблении банка, в котором он служит…
поиски решения проблемы: опасаясь за жизнь Нади, в которую он по-настоящему влюбился, Джон вынужден ввязаться в авантюру с ограблением банка…
решение проблемы: несмотря ни на что любовь побеждает…
Лиля навсегда / Lilja 4-ever. Швеция-Дания, 2002. Режиссер Л.Мудиссон.
исторический период, место действия: Постсоветское пространство и Швеция, 2002 год.
обстановка, предметы быта: квартиры и улицы небольшого постсоветского городка, квартира в шведском городе, городские улицы.
приемы изображения действительности: реалистичные, позитивные по отношению к положительным персонажам, в первую очередь – к шестнадцатилетней Лиле.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: шведские персонажи – типичные представители среднего класса, действиями которых движет расчет. Лиля, ее русские родственники и знакомые живут в ужасающей бедности, не в силах приспособиться к постсоветской жизни. Основная одежда персонажей соответствует их социальному статусу – шведы одеты добротно, русские – убого, безвкусно. Лексика персонажей проста, мимика и жесты порой форсированы.
существенное изменение в жизни персонажей: уставшая от трудностей жизни Лиля соглашается уехать в Швецию по приглашению одного из своих знакомых парней.
возникшая проблема: вскоре Лиля обнаруживает, что ее «благодетель» привез ее в Швецию, чтобы превратить в проститутку…
поиски решения проблемы: Лиля пытается вырваться из капкана…
решение проблемы: к сожалению, Лилю ждет печальный финал…
Структура стереотипов западных фильмов на российскую тему комедийного жанра
исторический период, место действия: любой отрезок времени, Россия, СССР, США, другие страны.
обстановка, предметы быта: скромные жилища и предметы быта российских/советских персонажей, роскошные жилища и предметы быта западных персонажей.
приемы изображения действительности: жизнь людей во «враждебных государствах», как правило, представлена условно-гротескно.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: персонажи с контрастным идеологическим и социальным статусом или без оного. Одежда западных персонажей выглядит лучше российских/советских. Телосложение, лексика, мимика и жесты дифференцированы, но в целом если главные персонажи по воле сюжета влюбляются друг в друга, то они обладают приятной внешностью.
существенное изменение в жизни персонажей: главные персонажи либо влюбляются при забавных/эксцентрических обстоятельствах, либо западные, российские/советские персонажи просто встречаются, находясь при этом на чужой территории.
возникшая проблема: национальный, социальный, идеологический (последний - в фильмах о советских временах) мезальянс, «культурный шок», взаимное непонимание.
поиски решения проблемы: в серии смешных/эксцентрических ситуаций персонажи преодолевают социальные и национальные препятствия.
решение проблемы: совместное решение проблемы, дружба, либо свадьба/любовная гармония, окрашенные юмором.
Русская кукла / Russian Doll. Австралия, 2001. Режиссер С.Казанцидис.
исторический период, место действия: Австралия, 2001 год.
обстановка, предметы быта: комфортабельные жилища и современные предметы быта австралийцев.
приемы изображения действительности: условные (в рамках жанра), австралийская обстановка и персонажи показаны с явной симпатией. По отношению к главной героине – русской невесте Кате – приемы изображения меняются по ходу сюжета: от гротеска (в ее начальном статусе), до симпатии.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: австралийские персонажи – типичные представители среднего класса. Катя, по-видимому, в своем Петербурге жила в бедности. Основная одежда персонажей соответствует их социальному статусу – австралийцы одеты добротно, Катя поначалу - похуже. Лексика персонажей проста, мимика и жесты порой форсированы.
существенное изменение в жизни персонажей: Катя приезжает из Санкт-Петербурга в далекую Австралию по брачному объявлению.
Возникшая проблема: Катя обнаруживает, что ее предполагаемый жених мертв, в результате остается одна в чужой стране, без средств к существованию…
поиски решения проблемы: Катя пытается найти выход из создавшегося положения и тут встречает австралийца Этана…
решение проблемы: Этан предлагает Кате помощь в виде фиктивного брака с его приятелем…
Вытаскивая Бориса / Spinning Boris. США, 2003. Режиссер Р.Споттисвуд.
исторический период, место действия: Россия, Москва, 1996.
обстановка, предметы быта: номера в отеле, офисы, московские улицы.
приемы изображения действительности: условные (в рамках жанра), московская обстановка и российские персонажи показаны с ироничной симпатией. Американские персонажи изображены в сугубо позитивном ключе.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: американские персонажи – типичные представители топ-менеджеров, политологов, они деловитые, целеустремленные. Русские, напротив, безалаберные, мало чего понимающие и умеющие. Основная одежда персонажей соответствует их социальному статусу – американцы одеты в деловые костюмы. Некоторые их русских одеты вульгарно. Лексика персонажей проста, мимика и жесты порой форсированы.
существенное изменение в жизни персонажей: группа американских политологов и имиджмейкеров прилетает в Москву, чтобы помочь больному Б. Ельцину выиграть президентские выборы.
возникшая проблема: безалаберность в правительственных кругах России, минимальная популярность Ельцина у избирателей и предвыборный натиск коммунистов ставит под угрозу план американцев.
поиски решения проблемы: с помощью хитроумных политтехнологий и продуманного PR американцы постепенно преодолевают возникшие трудности.
решение проблемы: в итоге американская команда добивается победы Б.Ельцина на президентских выборах.
Всё или ничего: московская окружная / All or Nothing: A Moscow Detour. США, 2004. Режиссер Г.Блоч.
исторический период, место действия: Москва, 2004 год.
обстановка, предметы быта: интерьеры московских домов и гостиниц, улицы, дороги.
приемы изображения действительности: условные (в рамках жанра), американцы и русские показаны с симпатией.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: американцы одеты модно, российские персонажи - похуже. Лексика персонажей проста, мимика и жесты утрированы...
существенное изменение в жизни персонажей: Американка Габби прилетает из Нью-Йорка в Москву, чтобы встретиться со своим отцом, который стал в России нефтяным олигархом.
возникшая проблема: под влиянием Габби отец сначала обещает ей вернуться в США, но потом пытается остаться в Москве.
поиски решения проблемы: приноравливаясь к российскому образу жизни и его бюрократическим порядкам, Габби пытается преодолеть возникшие трудности.
решение проблемы: не взирая на множество комических препятствий, Габби удается достичь своей цели…
Структура стереотипов западных фильмов на российскую тему фантастического жанра
исторический период, место действия: Далекое/недалекое будущее. Россия, США, другие страны, космическое простанство.
обстановка, предметы быта: фантастические жилища, космические корабли и предметы быта персонажей – от полной разрухи до супертехнологий.
приемы изображения действительности: квазиреалистическое или футуристическое изображение событий в «своих государствах, космических кораблях», условно-гротескное изображение жизни во «враждебных государствах, космических кораблях».
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: положительные персонажи (космонавты, военнослужащие, мирные граждане) – носители демократических идей; агрессоры (космонавты, военнослужащие, диверсанты, террористы) – носители антигуманных идей. Одежда: форма космонавтов, военная форма, обычная гражданская одежда. Телесложение – спортивное, крепкое. Лексика – деловая, мимика и жесты подчинены текущим функциям.
существенное изменение в жизни персонажей: отрицательные персонажи совершают преступление (военная агрессия, диверсии, убийства).
возникшая проблема: нарушение закона - жизнь положительных персонажей, как, нередко, и жизнь всех мирных персонажей демократической страны (в том или ином ее понимании) под угрозой. Вариация: после ядерной катастрофы остается лишь несколько выживших.
поиски решения проблемы: вооруженная борьба положительных персонажей с вражеской агрессией, или попытка оставшихся в живых после взрывов атомных бомб как-то приспособиться к новым условиях существования.
решение проблемы: уничтожение/пленение агрессоров, возвращение к мирной жизни, или адаптация оставшихся в живых после ядерной атаки к новым суровым условиям.
Линия смерти / Конечный срок / Deathline. Канада-Голландия, 1997. Режиссер Т.Такач.
исторический период, место действия: Москва, недалекое будущее.
обстановка, предметы быта: улицы и квартиры Москвы.
приемы изображения действительности: квазиреалистическое изображение событий.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: Главный герой - американец. Его одежда, лексика, мимика и жесты соответствуют «среднестатистическому» уровню. Его убийцы выглядят мерзко, их жесты и мимика выражают жестокость и злобу.
существенное изменение в жизни персонажей: американец приезжает в Москву, там его грабят и убивают бандиты…
возникшая проблема: главный герой убит, а его убийцы живы и на свободе.
поиски решения проблемы: ученые решают испытать новый оживляющий препарат на главном герое.
решение проблемы: препарат оживляет героя, и находит в себе силы отомстить своим убийцам…
Армагеддон / Armageddon. США, 1998. Режиссер М.Бэй.
исторический период, место действия: Недалекое будущее, космос.
обстановка, предметы быта: интерьеры космических кораблей, офисов, налаженный комфортабельный быт американцев астронавтов, неряшливый - у их русских коллег.
приемы изображения действительности: гротеск, по отношении к русским космонавтам - на грани карикатуры.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: положительные американские астронавты (симпатичные, сильные, смелые, честные, патриотичные, верные гражданскому долгу) и безалаберные российские космонавты (их командир – вообще находится на борту пьяным). Лексика персонажей проста и связана с космической спецификой. Одежда персонажей – космическая форма.
существенное изменение в жизни персонажей: к Земле приближается гигантский метеорит…
возникшая проблема: жизнь всех землян находится под угрозой, грядет конец человеческой цивилизации – Армагеддон.
поиски решения проблемы: американцы посылают космическую экспедицию для того, чтобы взорвать метеорит, по пути они стыкуются с российской орбитальной станцией, чтобы пополнить запас горючего.
решение проблемы: американцам удается взорвать гигантский метеорит.
Глубокое воздействие / Столкновение с бездной / Deep Impact. США, 1998. Режиссер М.Лидер.
исторический период, место действия: Недалекое будущее. США, космическое пространство.
обстановка, предметы быта: интерьеры космических кораблей, офисов, налаженный комфортабельный быт астронавтов.
приемы изображения действительности: квазиреалистические.
персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: положительные американские и русский астронавты (симпатичные, сильные, смелые, честные). Лексика персонажей проста и связана с космической спецификой. Одежда персонажей – космическая форма.
существенное изменение в жизни персонажей: к Земле приближается гигантская комета…
возникшая проблема: жизнь всех землян находится под угрозой...
поиски решения проблемы: земляне посылают совместную американо-российскую космическую экспедицию для того, чтобы взорвать комету…
решение проблемы: астронавтам удается взорвать комету, но ее остатки все-таки достигают Земли и наносят ей урон…
3.4. «Индиана Джонс и Храм хрустального черепа» Стивена Спилберга как пародийная трансформация медийных стереотипов «холодной войны» в рамках массовой/популярной культуры XXI века
В 2008 году за российскую тему неожиданно взялся сам
Стивен Спилберг, заставив легендарного персонажа Харрисона Форда сражаться со звероподобными советскими спецназовцами в боевике «Индиана Джонс и Храм хрустального черепа».
В связи с этим представляется любопытным проследить, как в рамках этого продукта массовой/популярной культуры XXI века медийные стереотипы «холодной войны» подверглись пародийной трансформации.
Авторы немалого числа отечественных исследований прошлых лет упрекали создателей произведений популярной культуры в том, что те использовали неблаговидные приемы психологического давления (постоянного повторения фактов вне зависимости от истины), извращения фактов и тенденций, отбора отрицательных черт в изображении политических противников, «приклеивания ярлыков», «наведения румян», «игры в простонародность», ссылки на авторитеты ради оправдания лжи и т.д. По сути, на основе частных фактов делались глобальные обобщающие выводы, так как среди создателей произведений массовой культуры всегда были и есть как честные профессионалы, строящие свои сюжеты с учетом гуманистических ценностей, так и склонные к политическому конформизму и сиюминутной конъюнктуре ремесленники.
Между тем, медиатексты, относящиеся к массовой/популярной культуре, имеют успех у аудитории вовсе не из-за того, что они, якобы, ориентированы только на людей с низким эстетическим вкусом, подверженных психологическому давлению, легко верящих лжи и т.д., а потому, что их авторы отвечают на реальные, достойные уважения и изучения потребности аудитории, в том числе – информационные, компенсаторные, гедонистические, рекреативные, моральные и т.д.
Возникновение «индустриального общества с абсолютной неизбежностью приводит к формированию особого типа культуры – культуры коммерческой, массовой, … удовлетворяющей на базе современных технологий фундаментальную потребность человечества в гармонизации психической жизни людей»
[Разлогов, 1991, с.10]. При этом массовая культура, немыслимая без медиа, - естественная составляющая современной культуры в целом, к которой принадлежит большая часть всех создаваемых в мире художественных произведений. Ее можно рассматривать как эффективный способ вовлечения широких масс зрителей, слушателей и читателей в разнообразные культурные процессы, как явление, рожденное новейшими технологиями (в первую очередь – коммуникационными), мировой интеграцией и глобализацией (разрушением локальных общностей, размыванием территориальных и национальных границ и т.д.). Такое определение массовой/популярной культуры, на мой взгляд, логично вписывается в контекст функционирования медиа – систематического распространения информации (через прессу, печать, телевидение, радио, кино, звуко/видеозапись, интернет) среди «численно больших, рассредоточенных аудиторий с целью утверждения духовных ценностей и оказания идеологического, экономического или организационного воздействия на оценки, мнения и поведение людей» [Философский энциклопедический словарь, 1983, 348].
В.Я.Пропп [Пропп, 1976], Н.М.Зоркая [Зоркая, 1981], М.И.Туровская [Туровская, 1979], О.Ф.Нечай [Нечай, 1993] и М.В.Ямпольский [Ямпольский, 1987] убедительно доказали, что для тотального успеха произведений массовой культуры необходим расчет их создателей на фольклорный тип эстетического восприятия, а «архетипы сказки и легенды, и соответствующие им архетипы фольклорного восприятия, встретившись, дают эффект интегрального успеха массовых фаворитов»
[Зоркая, 1981, c.116].
Действительно, успех у аудитории очень тесно связан с мифологическим слоем произведения. «Сильные» жанры – триллер, фантастика, вестерн – всегда опираются на «сильные» мифы»
[Ямпольский, 1987, с.41]. Взаимосвязь необыкновенных, но «подлинных» событий – один из основополагающих архетипов (опирающихся на глубинные психологические структуры, воздействующие на сознание и подсознание) сказки, легенды, - имеет очень большое значение для популярности многих медиатекстов.
О.Ф.Нечай, на мой взгляд, очень верно отметила важную особенность массовой (популярной) культуры – адаптацию фольклора в формах социума. То есть, если в авторском «тексте» идеал проступает сквозь реальность (в центре сюжета – герой-личность), в социально-критическом «тексте» дается персонаж, взятый из окружающей жизни (простой человек), то массовой культурой даются идеальные нормы в реальной среде (в центре повествования – герой-богатырь)
[Нечай, 1993, с.11-13].
Значительным влиянием на аудиторию обладает сериальная массовая культура. Тут вступают в действие «системообразующие свойства многосерийности: 1)длительность повествования, 2)прерывистость его, 3)особая сюжетная организация частей-серий, требующая определенной идентичности их структуры и повторности отдельных блоков, 4)наличие сквозных персонажей, постоянных героев (или группы таких героев)»
[Зоркая, 1981, c.59]. Кроме того, создатели медиатекстов массовой культуры учитывают «эмоциональный тонус» восприятия. Однообразие, монотонность сюжетных ситуаций нередко приводит аудиторию к отстранению от контакта с медиатекстом. Вот почему в произведениях таких профессионалов, как С.Спилберг, возникает смена эпизодов, вызывающих «шоковые» и «успокаивающие» реакции, но с непременно счастливым финалом, дающим положительную «разрядку». Иначе говоря, среди популярных медиатекстов немало тех, что легко и безболезненно разбиваются на кубики-блоки (часто взаимозаменяемые). Главное, чтобы эти блоки были связаны четко продуманным механизмом «эмоциональных перепадов» - чередованием положительных и отрицательных эмоций, вызываемых у публики.
По подобной «формуле успеха», включая фольклорную, мифологическую основу, компенсацию тех или иных недостающих в жизни аудитории чувств, счастливый конец, использование зрелищности (то есть самых популярных жанров и тем), построены многие бестселлеры и блокбастеры. Их действие, как правило, построено на довольно быстрой смене непродолжительных (дабы не наскучить) эпизодов. Добавим сюда и сенсационную информативность: мозаика событий разворачивается в различных экзотических местах, в центре сюжета – мир Зла, которому противостоит главный герой – почти волшебный, сказочный персонаж. Он красив, силен, обаятелен. Изо всех сверхъестественных ситуаций выходит целым и невредимым (отличный повод для идентификации и компенсации!). Кроме того, многие эпизоды активно затрагивают человеческие эмоции и инстинкты (чувство страха, например). Налицо серийность, предполагающая множество продолжений.
При меньшем или большем техническом блеске в медиатексте массового успеха типа action можно вычислить и дополнительные «среднеарифметические» компоненты успеха: драки, перестрелки, погони, красотки, тревожная музыка, бьющие через край переживания персонажей, минимум диалогов, максимум физических действий и другие «динамические» атрибуты, о которых верно писал Р.Корлисс
[Корлисс, 1990, с.8]. Действительно, современный медиатекст (кино/теле/клиповый, интернетный, компьютерно-игровой) выдвигает «более высокие требования к зрению, поскольку глазами мы должны следить за каждым сантиметром кадра в ожидании молниеносных трюков и спецэффектов. Вместе со своей высокоскоростной технической изобретательностью, внешним лоском и здоровым цинизмом «дина-фильмы» - идеальная разновидность искусства для поколения, воспитанного на MTV, ослепленного световыми импульсами видеоклипов, приученного к фильмам с кровавыми сценами»
[Корлисс, 1990, с.8].При этом стоит отметить, что во многих случаях создатели «массовых» медиатекстов сознательно упрощают, тривиализируют затрагиваемый ими жизненный материал, очевидно, рассчитывая привлечь ту часть молодежной аудитории, которая сегодня увлеченно осваивает компьютерные игры, построенные на тех или иных акциях виртуального насилия. И в этом, бесспорно, есть своя логика, ибо еще Н.А.Бердяев совершенно справедливо писал, что «массам, не приобщенным к благам и ценностям культуры, трудна культура в благородном смысле этого слова и сравнительно легка техника»
[Бердяев, 1990, с.229].
Вместе с тем, опоры на фольклор, развлекательности, зрелищности, серийности и профессионализма авторов еще не достаточно для масштабного успеха медиатекста массовой культуры, так как популярность также зависит от гипнотического, чувственного воздействия. Вместо примитивного приспособления под вкусы «широких масс» угадывается «тайный подсознательный интерес толпы» на уровне «иррационального подвига и интуитивного озарения»
[Богомолов, 1989, с.11].
Одни и те же сюжеты, попадая к рядовому ремесленнику или, к примеру, к Стивену Спилбергу, трансформируясь, собирают различные по масштабу аудитории. Мастера популярной медиакультуры в совершенстве овладели искусством создания произведений многоуровневого построения, рассчитанного на восприятие людей самого различного возраста, интеллекта и вкуса. Возникают своего рода полустилизации-полупародии вперемежку с «полусерьезом», с бесчисленными намеками на хрестоматийные фильмы прошлых лет, прямыми цитатами, с отсылками к фольклору и мифологии и т.д. и т.п.
К примеру, для одних зрителей «текст» спилберговского сериала об Индиане Джонсе будет равнозначен лицезрению классического
«Багдадского вора». А для других, более искушенных в медиакультуре, - увлекательным и ироничным путешествием в царство фольклорных и сказочных архетипов, синематечных ассоциаций, тонкой пародийности. Кроме того, одной из своеобразных черт современной социокультурной ситуации помимо стандартизации и унификации стала адаптация популярной медиакультурой характерных приемов языка, присущего прежде лишь «авторским» произведениям. И в этом тоже проявляется плюрализм популярной медиакультуры, рассчитанной на удовлетворение дифференцированных запросов аудитории.
Для массового успеха медиатекста важны также терапевтический эффект, феномен компенсации. Разумеется, восполнение человеком недостающих ему в реальной жизни чувств и переживаний абсолютно закономерно. Еще З.Фрейд писал, что «культура должна мобилизовать все свои силы, чтобы поставить предел агрессивным первичным позывам человека и затормозить их проявления путем создания нужных психологических реакций»
[Фрейд, 1990, с.29].Таким образом, медиатексты популярной культуры своим успехом у аудитории обязаны множеству факторов. Сюда входят: опора на фольклорные и мифологические источники, постоянство метафор, ориентация на последовательное воплощение наиболее стойких сюжетных схем, синтез естественного и сверхъестественного, обращение не к рациональному, а эмоциональному через идентификацию (воображаемое перевоплощение в активно действующих персонажей, слияние с атмосферой, аурой произведения), «волшебная сила» героев, стандартизация (тиражирование, унификация, адаптация) идей, ситуаций, характеров и т.д., мозаичность, серийность, компенсация (иллюзия осуществления заветных, но не сбывшихся желаний), счастливый финал, использование такой ритмической организации аудиовизуальных медиатекстов, где на чувство аудитории вместе с содержанием кадров воздействует порядок их смены; интуитивное угадывание подсознательных интересов публики и т.д.
В очередной серии своей «индианы» - боевике «Индиана Джонс и Храм хрустального черепа» (2008) С.Спилберг собрал букет практически всех ходовых западных стереотипов по отношению к России и русским. Правда, звероподобные советские солдаты в полной боевой амуниции и с соответствующей боевой техникой каким-то неведомым образом попавшие в Америку выглядят на экране издевательски гротескно. Чего стоят одни только пародийные «погрешности», верно подмеченные «Википедией»: командир советского десанта Ирина Спалько действует по приказу Сталина, хотя тот к моменту действия фильма (1957) вот уже четыре года, как покоился в гробу; одетые в американскую военную форму советские солдаты, колесящие по дорогам США, вооружены китайскими автоматами; советские солдаты открыто шагают по американским пустыням и тропикам в советской же военной форме, пьют русскую водку, в потом пляшут под балалайку «калинку-малинку»... Между прочим, дорогу в американских джунглях советским солдатам расчищает лесоповальный аппарат, ломающий деревья налево и направо (здесь авторы сайта 2000.net.ua усмотрели озорную пародию на паровой лесоповальный механизм из «Сибирского цирюльника» Н.Михалкова) …
Так или иначе, но С.Спилберг превратил «Индиану Джонс и Храм хрустального черепа» в своего рода дайджест стереотипного восприятия образа России и русских западным киномиром…
3.5. Идеологический, структурный анализ трактовки образа России на западном экране в постсоветскую эпоху (1992-2010)(на примере фильма «Душка» Й.Стеллинга)
В качестве примера анализа западного фильма постсоветских времен в идеологическом и социокультурном поле обратимся к иронической драме
«Душка» (2007) известного голландского режиссера Й.Стеллинга. Попытаемся выявить не только общественно-исторический контекст времени создания данного медиатекста, но и его структуру, сюжет, репрезентативность, этику, особенности жанровой модификации, иконографии, характеров персонажей.
Следуя методике, разработанной У.Эко, «выделим три «ряда», или «системы», которые значимы в произведении: идеология автора; условия рынка, которые определили замысел, про¬цесс написания и успех книги (или, по крайней мере, спо¬собствовали и тому, и другому, и третьему); приемы повествования»
[Эко, 2005, с.209], что, как нам уже доводилось отметить, вполне соотносится с методикой анализа медиатекстов по К.Бэзэлгэт
[Бэзэлгэт, 1995] - с опорой на такие ключевые слова медиаобразования, как «медийные агентства» (media agencies), «категории медиа/медиатекстов» (media/media text categories), «медийные технологии» (media technologies), «языки медиа» (media languages), «медийные репрезентации» (media representations) и «медийная аудитория» (media audiences), так как все эти понятия имеют прямое отношение к идеологическим, рыночным и структурно-содержательным аспектам анализа медийных произведений.
Идеология авторов в социокультурном контексте (доминирующие понятия: «медийные агентства», «медийные репрезентации», «медийная аудитория»)
В западном «образе России как смысловом поле на протяжении веков существуют два полюса, представленные двумя архетипами-мифологемами: Россия как внешняя угроза (варвар у ворот) и Россия как объект просвещения, обучения (ученик)»
[Мосейко, 2009, с.25].
Авторы «Душки» задумывали и создавали свой фильм в постоветскую эпоху, когда активное политическое противостояние Запада и СССР сменилось сначала сочувственно-покровительственным отношением, когда Россия рассматривалась как ученик, которому, увы, так и не дано дотянуться до американо-европейских жизненных стандартов (первая половина 1990-х годов), но затем (в 2000-х годах) снова стало приобретать хрестоматийные очертания противодействия «варвару у ворот».
На мой взгляд, Й.Стеллинг в «Душке» попытался совместить оба хрестоматийных западных идеологических подхода к России («ученик» и «враг у ворот»), хотя существует мнение, что бытовая сторона фабулы фильма больше подходит для экономической и социокультурной российской ситуации начала 1990-х, чем для середины 2000-х, - дескать, «ладно, мы готовы с усталой улыбкой поиронизировать над собой, покаянно кивнув головой: ну не находим мы с Европой общего языка - поэтому и фильм почти немой. Вот только запоздала карикатура лет на пятнадцать»
[Любарская, 2007].
Однако знаменитый голландский режиссер Й.Стеллинг, несмотря на отчетливую ироничную насмешливость по отношению к русской/славянской жизни вовсе не стремится сделать тривиальную комедию. В жанровом отношении «Душка», скорее, синтез драмы, горькой комедии и иронической притчи.
- Вам не приходит в голову, - говорит Й.Стеллинг в своем интервью, -
что Душка и Боб — это один и тот же человек, рацио и душа, голова и сердце? И поскольку голова с сердцем у многих не в ладу, Душка и Боб все время ссорятся… Для меня, главная тема фильма выходит за рамки конфликта Запада и Востока. Я пытался сделать что-то более экзистенциальное. Это просто история человека, у которого есть его творчество и его муза. Но вот он встречается с бездельником. Это существо - архетип смерти, бездействия, пустоты, но в то же время это очень симпатичное, милое существо. И именно выбор между любовью, творчеством и бездейственной смертью был для меня главным вопросом в этой картине. Все остальное - более поверхностные пласты [Стеллинг, 2007].
В итоге, хотя Й.Стеллинг и «прикипел душой к России, но этот факт не отменил в нем западного человека, который с пронзительной ясностью видит непереходимую пропасть, разделяющую наш евразийский мир и чистопородную Европу. Голландский режиссер рисует наших людей с симпатией и сочувствием, но все равно получается если не карикатура, то дружеский шарж. А как же иначе, если все самые благородные порывы доводятся в нашем исполнении до гротеска, который интересно понаблюдать со стороны, но с которым невозможно ужиться надолго, тем более — навсегда»
[Цыркун, 2008] .
Условия рынка, которые способствовали замыслу, про¬цессу создания и успеха медиатекста (доминирующие понятия: «медийные агентства», «категории медиа/медиатекстов», «медийные технологии», «медийная аудитория»).
Западный экран 2000-х годов довольно часто обращался к российской тематике – с 2000 по 2009 годы было снято около 160 игровых фильмов о России/СССР и с русскими/советскими персонажами.
Конечно, «Душка» - типичное произведение арт-хауса, как и все фильмы Й.Стеллинга изначально не претендовавшее на массовый успех у аудитории. Однако малобюжетные работы Й.Стеллинга практически всегда окупаются за счет «альтернативного проката», экспорта, продажи для телепоказов, выпуска на видео и DVD. Правда, в данном случае, доминанта русского персонажа и русской темы, поначалу, видимо, не очень вдохновляли европейских продюсеров, поэтому деньги на фильм (два миллиона евро) режиссер искал целых пять лет…
Сценарный замысел режиссера был основан, в том числе и на его собственных впечатлениях от посещения постсоветской России (в частности, кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи). В итоге они, пусть в причудливо-гротескной форме нашли свое воплощение в сюжетной вязи фильма, хотя «Стеллинг не придумал для «Душки» никаких новых режиссерских ходов — это традиционная для него герметичная, интерьерная картина с минимумом диалогов, к чему располагает уже главная коллизия фильма — к голландцу, не знающему ни слова по-русски, приезжает русский (а может, украинец, а может, и какой другой славянин), в свою очередь, не говорящий ни на каком иностранном языке»
[Цыркун, 2008].
Структура и приемы повествования в медиатексте (доминирующие понятия: «категории медиа/медиатекстов», «медийные технологии», «языки медиа», «медийные репрезентации»)
В целом фильм «Душка» построен на несложных дихотомиях: 1) российский/славянский бесцеремонный (хотя в чем-то и обаятельный) «варвар», который не желает и не способен быть «учеником» и представитель западного интеллектуального мира; 2) безделие/пустота и творчество; 3) стремление к независимости и конформизм; 4) план и результат.
Схематично структуру, сюжет, репрезентативность, этику, особенности жанровой модификации, иконографии, характеров персонажей можно представить следующим образом:
Исторический период, место действия: Россия/Украина первых постсоветских лет1990-х годов (в основном в ретроэпизодах), современная Голландия.
Обстановка, предметы быта: интерьеры квартиры, городские улицы, кинотеатр, автобус.
Приемы изображения действительности: амбивалентные по отношению практически ко всем персонажам, в которых гармонично сочетается добро и зло, при этом «Душка» вся выстроена на банальностях разного уровня — от простейших, связанных с бытовыми представлениями о русском народе и его менталитете, до интеллектуальных клише»
[Цыркун, 2008].
Персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты: внезапно приехавший в Голландию обаятельный нахлебник русского/славянского происхождения. «Многозначно уже первое появление главного героя
(Сергей Маковецкий) на экране: по деревянной лестнице дома, где живет европеец Боб, он поднимается в растиражированном узнаваемом облике — в потертой шапке-ушанке и с радостной улыбкой, символизируя не только известную расхристанную «душевность», но и пресловутое «подсознание Запада»
[Цыркун, 2008].
Лексика персонажей проста, вернее, сказать, сведена к минимуму. Не понимающие языка друг друга главные герои больше молчат. Зато их диалог богат выразительной мимикой и жестами.
Существенное изменение в жизни персонажей: 200… год. Размеренное существование голландского сценариста Боба нарушается нежданным-негаданным визитом непрошенного, но настырного русского гостя, который «пришел навеки поселиться» в квартире своего случайного европейского знакомого...
Возникшая проблема: социокультурные и языковое барьеры мешают русскому и европейцу найти общий язык.
Поиски решения проблемы: европеец пытается избавиться от варвара…
Решение проблемы: покинув свой дом, европеец вслед за изгнанным варваром отправляется в Россию (вернее, в некую славянскую страну)…
А.Силверблэт
[Silverblatt, 2001, pp.80-81] разработал цикл вопросов к критическому анализу медиатекстов в историческом, культурном и структурном контексте. Попытаемся применить его метод к анализу «Душки»:
A. Исторический контекст
1. Что медиатекст сообщает нам о периоде своего создания?
a) когда состоялась премьера этого медиатекста?
Премьера фильма состоялась в 2007 года в Европе и России.
b) как тогдашние события влияли на медиатекст?
Прямолинейных влияний конкретных политических событий на процесс создания «Душки» нет, скорее, в фильме в притчеобразной форме трансформированы стереотипные представления Запада о «загадочной славянской душе».
c) как медиатекст комментирует события дня?
Я согласен с тем, что «как бы не отнекивался Йос Стеллинг, … но фильм вышел с политическим подтекстом. Да, конечно, художник выясняет отношения только с собой. Однако живет он не в безвоздушном пространстве. И если Стеллинга от загадок голландской души («Летучий голландец», «Стрелочник», «Иллюзионист») вдруг потянуло к русской «душке», значит, таков дух времени. Объединенной Европе необходимо зеркало, на которое нечего пенять, коли рожа крива. … Вот тут-то, как спасительная соломинка, возникает загадочная русская душа - та часть европейской культурной традиции, половина которой коренится в Азии, поэтому от нее при случае можно и отмахнуться»
[Любарская, 2007].
2. Помогает ли знание исторических событий пониманию медиатекста?
a) медиатексты, созданные в течение конкретного исторического периода:
-какие события происходили во время создания данного произведения?
Сценарий фильма задумывался и писался в 2002-2006 годах, когда в 2004 году на Украине победила прозападная «оранжевая оппозиция», что повлекло за собой российско-украинский первый «газовый кризис» 2006 года. В том же году тогдашний вице-президент США Р.Чейни обвинил Россию в использовании своих природных ресурсов в качестве внешнеполитического оружия давления, в нарушении РФ прав человека и в ее деконструктивных действиях на международной арене. В этот период и Россия неоднократно критикует политику США и Европейского Союза (например, по Косовской проблеме).
-как понимание этих событий обогащает наше понимание медиатекста?
Естественно, понимание историко-политического контекста помогает лучше разобраться как в особенностях сюжета фильма, так и в его концепции. Хотя человеку, даже абсолютно не знакомому с историко-политическим контекстом первой половины 2000-х годов, будет не очень сложно разобраться в сюжете «Душки», по внешнему фабульному ряду построенному на традиционных западных стереотипах восприятия образа Русского (нелепый внешний вид, бедность, прожорливость, навязчивость, бесцеремонность, полное отсутствие знания иностранных языков и т.п.).
-каковы реальные исторические ссылки?
В фильме нет реальных исторических ссылок.
-имеются ли исторические ссылки в медиатексте?
Фильм не основан на реальных фактах, исторические ссылки имеют косвенный характер, в трактовке событий отчетливо ощущается иронический гротеск, однако описанные выше тенденции обыгрывания западных стереотипов «образа России» вполне прозрачны.
-как понимание этих исторических ссылок затрагивает ваше понимание медиатекста?
Бесспорно, понимание исторических ссылок (пусть, и завуалированных и гротескных) помогает лучшему пониманию любого медиатекста, в том числе и «Душки».
B. Культурный контекст
1. Медиа и популярная культура: каким образом медиатекст отражает, укрепляет, внушает, или формирует культурные: a) отношения; b) ценности; c) поведение; d) озабоченность; e) мифы.
Отражая (пусть и иронично) стереотипы отношения Запада к России фильм Й.Стеллинга создает образ неполиткорректной, нелепой, варварской, бедной, необразованной и навязчивой России, стучащейся в «западные ворота» – это страна с холодным климатом (который символизирует ушанка Душки), бедным населением и дурными нравами…
2. Мировоззрение: какой мир изображен в медиатексте?
a) Какова культура этого мира?
В общем и целом (хотя, повторюсь, и философски иронично) в «Душке» создается образ России как «врага у ворот».
-люди?
Люди в этом мире делятся на взаимосвязанную пару: русский «враг у ворот», который «бесконечно кроток и чудовищно навязчив одновременно, а когда его выгоняют в дверь – изображает под окном такую мировую скорбь, что в припадке гуманизма любой гражданин ЕС просто обязан выпасть вниз головой со второго этажа»
[Куликов, 2007] и «страдающий европейский интеллектуал-конформист». Нельзя не согласиться с тем, что С.Маковецкому удалось создать в роли Душки «образ одновременно и очень противного, и очень трогательного существа, с ним жить невыносимого, но и забыть его не возможно. Душка - такой преданный, открытый, простодушный, но и невероятно нелепый, придурковатый, неловкий, торчит, как прыщ на подбородке, и ничего с ним не поделать, но когда он исчезает, Боб понимает, что пустоту эту ничем не заполнить. И то, что Душка был провокатором, вызывающим у него чувства, о существовании которых он мог бы и не узнать никогда» [Солнцева, 2007].
-идеология?
Можно согласиться с тем, что «трагедия маленького человека» – не тема Стеллинга. Скорее, если продолжать языком школьных сочинений, это драма бездуховности европейского интеллигента» [Рябчикова, 2007]. С другой стороны, «это история, рассказанная с любовью — той истинно вызревшей любовью, которая неотделима от ненависти, когда уже отчетливо видишь пороки и недостатки предмета, но и понимаешь, что все равно никуда от него не деться, и приходится принимать его таким, каков он есть, ибо он уже часть тебя» [Цыркун, 2008].
b) Что мы знаем о людях этого мира?
-представлены ли персонажи в стереотипной манере? что эта репрезентация сообщает нам о культурном стереотипе данной группы?
В целом персонажи «Душки» представлены в стереотипной для западного восприятия образа России манере, однако расцвеченной талантливой актерской игрой. Чего стоит одна работа Сергея Маковецкого, «который наполняет пустой умозрительный образ Душки и жестокостью, и тупостью, и трогательностью; рабской подчиненностью и деспотизмом» [Рябчикова, 2007].
c) Какое мировоззрение представляет этот мир - оптимистическое или пессимистическое?
Авторы «Душки» представляют образ России, скорее, пессимистически, хотя условный оптимизм, быть может, проявляется, что в том, что бессловесный диалог «варвара» и «европейца» - своего рода символ неизбежности их сосуществования.
-персонажи этого медиатекста счастливы?
Увы, в фильме нет счастливых персонажей, каждый из них, так или иначе, несчастен…
-есть ли у персонажей этого медиатекста шанс быть счастливыми?
Авторы дают понять, что счастливым можно быть только в отдельные мгновения жизни (такие минуты были, например, у европейца, когда к нему домой пришла красивая билетерша из соседнего кинотеатра, но и здесь ему помешал все тот же нетактичный Душка)…
d) Способны ли персонажи управлять их собственными судьбами?
Только в какой-то мере, так как человек (по Й.Стеллингу) не властен управлять своей судьбой…
e) Какова иерархия ценностей согласно данному мировоззрению?
-какие ценности могут быть найдены в медиатексте?
Согласно авторской концепции фильма, одна из основных ценностей в мире – трудно достижимые душевная гармония и взаимопонимание.
-какие ценности воплощены в персонажах?
Наверное, не так просто передать словами то, что «ищет Боб, и то, что дает ему Душка, хотя, конечно, можно все свалить на европейскую тоску по общинности, соборности и эмоциональной открытости, которых их души алчут, но тела не переносят... Однако в замечательном дуэте Бервутца и Маковецкого есть и много другого, и оно содержится во множестве точных деталей, маленьких нюансов, от которых современное, а особенно русское кино давно отвыкло. Это и насыщенность смыслами всей кинематографической фактуры, где каждый предмет знает свою роль, и умение не только жестом, но и неуловимым движением мышц лица передать не считываемое на уровне сознания состояние души, эмоцию, переменчивую, как рябь на воде, в общем, все то, что является результатом несуетных усилий серьезного художника, имеющего смелость снимать именно те истории, которые кажутся важными ему самому» [Солнцева, 2007].
Заключение
Анализ трансформации образа России на западном экране - от эпохи идеологической конфронтации (1946-1991) до современного этапа (1992-2010), включающий идеологический, социальный анализ, анализ стереотипов, анализ характеров персонажей, идентификационный, иконографический, сюжетный/повествовательный, репрезентативный анализ, классификацию моделей содержания и модификаций жанра позволяет нам сделать следующие выводы:
- антисоветизм/антикоммунизм западного экрана играл важную роль в холодной войне, однако не стоит забывать о том, что во все времена политика Запада во многом была антироссийской, и всякое усиление России (экономическое, военное, геополитическое) воспринималось как угроза Западному миру. Эту тенденцию можно проследить и во многих западных художественных произведениях – как до возникновения СССР, так и после его распада;
- контент-анализ западных медиатекстов «холодной войны» (1946-1991) позволяет представить их основные сюжетные схемы следующим образом: советские шпионы проникают на территорию США/Западной страны, чтобы совершить диверсии и/или выведать военные секреты; СССР готовит тайный удар по территории США/Западного мира, создавая для этого секретные базы с ядерным оружием; бесчеловечный советский тоталитарный режим угнетает свой собственный народ или народ иной страны; диссиденты покидают/пытаются покинуть СССР, где, по их мнению, душат демократию и свободу личности; обычные западные жители объясняют введенным в заблуждение пропагандой советским военным/гражданским визитерам, что США/Западная страна – оплот дружбы, процветания и мира; на пути влюбленной пары возникают препятствия, связанные с идеологической конфронтацией между СССР и Западным миром;
- контент-анализ западных медиатекстов, созданных в постсоветский период 1992-2010 годов, позволяет представить их основные сюжетные схемы следующим образом: ретровариант: преступления советской власти в период с 1917 по 1991 годы (тоталитарная диктатура, концлагеря, военная агрессия против иных стран, шпионаж и пр.); современность: беспомощность и коррупционность российских властей, которые не могут наладить экономику, контролировать скопившиеся запасы вооружения и бороться с преступностью; современная Россия – страна мафии, бандитов, террористов, проституток, нищих, обездоленных, несчастных людей; русские эмигрируют на Запад в поисках лучшей жизни (женитьба/замужество, проституция, преступная деятельность);
- в отличие от периода 1946-1991 годов, западные фильмы на российскую тему в 1992-2010 подпитывались не только конфронтационными сюжетами (военное противостояние, шпионаж, мафия и пр.), но и удовлетворением интересов значительно выросшей диаспоры русскоязычных эмигрантов, делегировавшей своих представителей в кинобизнес. Все это не могло не сказаться на постоянном присутствии «россики» в западном (прежде всего – в американском) кинопроизводстве. Поэтому, например, во многих американских сериалах, действие которых происходит в США, хоть в одной серии, да и появляется русский персонаж–эмигрант или приехавший в Америку по какой-то надобности россиянин;
- однако в целом западная кинематографическая «россика» в полной мере унаследовала традиции отношения Запада к России: в большинстве игровых фильмов 1946-2010 года образ России трактуется как образ «Чужого», «Другого», часто враждебного, чуждого западной цивилизации;
В силу сказанного выше было бы излишне оптимистично ожидать, что формировавшаяся веками стереотипная концепция западного экрана относительно образа России может измениться в ближайшее время; скорее всего, проанализированные нами сюжетные схемы, идеологические подходы, характеры персонажей и т.п. будут в той или иной форме доминировать и в обозримом будущем.
Литература
Andersen, T. & Burch N. (1994). Les communistes des Hollywood. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 208 p.
Babitsky P. and Rimberg J. (1955). The Soviet Film Industry. N.Y.: Praeger, 377 p.
Britton, Wesley (2006). Onscreen and Undercover. The Ultimate Book of Movie Espionage. Westport-London: Praeger, 209 p.
Dubois, R. (2007). Une histoire politique du cinema. Paris: Sulliver, 216 p.
Eco, U. (1960). Narrative Structure in Fleming. In: Buono, E., Eco, U. (Eds.). The Bond Affair. London: Macdonald, p.52.
Fried, R.M. (1998). The Russian are coming! The Russian are coming! N.Y., Oxford: Oxford University Press, 220 p.
Golovskoy, V. (1987). Art and Propaganda in the Soviet Union, 1980-5. In: Lawton, A. (Ed.). The Red Screen. Politics, Society, Art in Soviet Cinema. London and New York: Routledge, pp.264-274.
Haynes, J.E. (1966). Red Scare or Red Menace? Chicago: I.R.Dee, 214 p.
Jones, D.B. (1972). Communism and the Movies: A Study of Film Content. In: Keen, S. (1986). Faces of the Enemy. San Francisco: Harper and Row.
Jones, D.B. (1972). Communism and the Movies: A Study of Film Content. In: Cogley, J. (Ed.). Reporting on Blacklisting. Vol. I. The movies. New York: Arno.
Keen, S. (1986). Faces of the Enemy. San Francisco: Harper and Row.
Kenez, P. (1992). Cinema and Soviet Society, 1917-1953. Cambridge, N.Y.: Cambridge University Press, 281 p.
Lacourbe, R. (1985). La Guerre froide dans le cinema d'espionnage. Paris: Henri Veyrier, 315 p.
LaFeber, W. (1980). America, Russia and the Cold War: 1945-1980. N.Y.: J.Wiley, 1980, p.345.
LaFeber, W. (1990). America, Russia and Cold War. New York: Alfred A. Knopf.
Lauren, N. (2000). L'Oeil du Kremlin. Cinema et censure en URSS sous Stalin (1928-1953). Toulouse: Privat, 286 p.
Lawton, A. (2004). Imaging Russia 2000. Films and Facts. Washington, DC: New Academia Publishing, 348 p.
Levering, R. B. (1982). The Cold War, 1945-1972. Arlington Heights: Harlan Davidson.
Mavis, P. (2001). The Espionage Filmography. Jefferson & London: McFarland, 462 p.
Parish, J.R. and Pitts, M.R. (1974). The Great Spy Pictures. Metuchen, N.J.: The Scarecrow Press, 585 p.
Parish, J.R. and Pitts, M.R. (1986). The Great Spy Pictures II. Metuchen, N.J. & London: The Scarecrow Press, 432 p.
Reid, J.H. (2006). Great Cinema Detectives. L.A.: Hollywood Classics 21, 264 p.
Robin, R.T. (2001). The Making of the Cold War Enemy. Princeton, Oxford: Princeton University Press, 277 p.
Rubenstein, L. (1979). The Great Spy Films. Secaucus, N.J.: The Citadel Press, 223 p.
Rubin, M. (1999). Thrillers. Cambridge: Cambridge University Press, 319 p.
Shaw, T. (2006). British Cinema and the Cold War. N.Y.: I.B.Tauris, 280 p.
Shlapentokh D. and V. (1993). Soviet Cinematography 1918-1991: Ideological Conflict and Social Reality. N.Y.: Aldine de Gruyter,
Silverblatt, A. (2001). Media Literacy. Westport, Connecticut – London: Praeger, 449 p.
Small, M. (1980). Hollywood and Teaching About Russian-American Relations. Film and History, N 10, pp.1-8.
Strada, M. (1989). A Half Century of American Cinematic Imagery: Hollywood’s Portrayal of Russian Characters, 1933-1988. Coexistence, N 26, pp.333-350.
Strada, M.J. and Troper, H.R. (1997). Friend or Foe?: Russian in American Film and Foreign Policy. Lanham, Md., & London: The Scarecrow Press, 255 p.
Turovskaya, M. (1993). Soviet Films of the Cold War. In: Taylor, R. and Spring, D. (Eds.). Stalinism and Soviet Cinema. London and New York: Routledge, pp.131-141.
Westad, O.A. (2007). The Global Cold War. Cambridge: University Press, 484 p,
Whitfield, S.J. (1991). The Culture of the Cold War. Baltimore: John Hopkins University Press.
Асратян Э. Слава русской науки // Литературная газета. 1949. 12 февраля.
Ашин Г.К., Мидлер А.П. В тисках духовного гнета. М.: Мысль, 1986. 253 с.
Баскаков В.Е. Противоборство идей на западном экране // Западный кинематограф: проблемы и тенденции. М.: Знание, 1981. С.3-20.
Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире // Новый мир.1990. № 1. С.207-232.
Богомолов Ю.А. Кино на каждый день... // Литературная газета. 1989. № 24. С.11.
Бэзэлгэт К. Ключевые аспекты медиаобразования. М.: Изд-во Ассоциации деятелей кинообразования, 1995. 51 с.
Волкогонов Д. А. Психологическая война. М.: Воениздат, 1983. 288 с.
Гладильщиков Ю. Если верить голливудским фильмам, то «империя зла» - это опять мы // Итоги. 1997. № 10. 21.10.
Гольдин М.М. Опыт государственного управления искусством. Деятельность первого отечественного Министерства культуры. М., 2000.
Гудков Л. Идеологема «врага»: «враги» как массовый синдром и механизм социокультурной интеграции // Образ врага / Сост. Л. Гудков. М., 2005.
Долматовская Г.Е. Исторический факт и его идеологическая трактовка в современном кино // Экран и идеологическая борьба / Ред. коллегия: В.Е.Баскаков и др. М.: Искусство, 1976. С. 214-228.
Зоркая Н.М. Уникальное и тиражированное. Средства массовой коммуникации и репродуцированное искусство. М.: Искусство, 1981. 167 с.
Зоркая Н.М. Фольклор. Лубок. Экран. М., 1994.
Иванян Э.А. Когда говорят музы. История российско-американских культурных связей. М.: Международные отношения, 2007. 432 с.
Капралов Г.А. Игра с чертом и рассвет в урочный час. М.: Искусство, 1975. 328 с.
Капралов Г.А. Человек и миф: эволюция героя западного кино (1965-1980). М.: Искусство, 1984. 397 с.
Карцева Е.Н. Голливуд: контрасты 70-х. М.: Искусство, 1987. 319 с.
Климонтович Н. Они как шпионы // Искусство кино. 1990. № 11.
Клугер Д. Потерянный рай шпионского романа // Реальность фантастики. 2006. № 8.
Ковалов О. Звезда над степью: Америка в зеркале советского кино // Искусство кино. 2003. № 10. С.77-87.
Кокарев И.Е. США на пороге 80-х: Голливуд и политика. М.: Искусство, 1987. 256 с.
Колесникова А.Г. Рыцари эпохи «холодной войны» (образ врага в советских приключенческих фильмах 1960-1970-х гг. // Клио. 2008. № 3. С.144-149.
Комов Ю.А. Голливуд без маски. М.: Искусство, 1982. 208 с.
Корлисс Р. Дина-фильмы атакуют // Видео-Асс экспресс. 1990. № 1.С.8.
Кудрявцев С.В. Верните врагов на экран! 1999. 26.05.
Кукаркин А.В. Буржуазная массовая культура. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1985. 399 с.
Куликов И. Душка. 13.11.2007.
Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война. М., 1999.
Ломакин Я. Заместителю министра ино¬странных дел СССР т. Вышинскому А.Я. от Генконсула СССР в Нью-Йорке Я. Ломакина. 23 декабря 1947 г. РГАСПИ, ф. 17, oп. 128. д. 408, л. 242-246.
Любарская И. Душка. 16.11.2007.
Мосейко А.Н. Трансформация образа России на Западе в контексте культуры последней трети XX века // Общественные науки и современность. 2009. № 2. С.23-35.
Наринский М.М. Происхождение холодной войны // От Фултона до Мальты: как началась и закончилась холодная война. Горбачевские чтения. Вып. 4. / Ред. О.М.Здравомыслова. М.: Горбачев-Фонд, 2006. С.161-171.
Немкина Л.Н. Советская пропаганда периода «холодной войны»: методология и эффективная технология // Acta Diurna. 2005. № 3.
Нечай О.Ф. Кинообразование в контексте художественной литературы // Специалист. 1993. № 5. С.11-13.
Печатнов В.О. От союза - к холодной войне: советско-американские отношения в 1945 - 1947 гг. М.: МГИМО, 2006. 184 с.
План мероприятий по усилению антиамериканской пропаганды на ближайшее время. М., 1949. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 224. Л. 48-52.
Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М.: Искусство, 1976. С.51-63.
Пропп, В.Я. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 1998. 512 с.
Разлогов К.Э. Парадоксы коммерциализации // Экран и сцена. 1991. № 9. С.10.
Рукавишников В.О. Холодная война, холодный мир. М.: Академический проект, 2000. 864 с.
Рябчикова Н. Душка. 08.11.2007.
Соболев Р.П. Голливуд, 60-е годы. М.: Искусство, 1975. 239 с.
Солнцева А. Душевно поют... // Времени Новостей. 2007.
Сорвина М. Необъявленная война. 2007.
Стеллинг, Й. Интервью: Тасбулатова Д. Душка Стеллинг // Огонек. 2007. № 48. http://www.ogoniok.com/5024/27/
Стеллинг, Й. Русские живут здесь и сейчас.
Стишова Е., Сиривля Н. Соловьи на 17-й улице [Материалы дискуссии об антиамериканизме в советском кинематографе, Pittsburg University, май 2003] // Искусство кино. 2003. № 10. С.5-21.
Тарасов А. Страна Х. 2001.
Туровская М.И. Blow up, или Герои безгеройного времени – 2. М.: МИК, 2003. 288 c.
Туровская М.И. Почему зритель ходит в кино // Жанры кино. М.: Искусство, 1979. 319 с.
Туровская М.И. Фильмы «холодной войны» // Искусство кино. 1996. № 9. С.98-106.
Уткин А. Мировая «холодная война». М.: Алгоритм, Эксмо, 2005.
Фатеев А.В. Образ врага в советской пропаганде, 1945-1954. М.: Изд-во РАН, 1999.
Федоров А.В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов педагогического вуза. М.: Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2007. 616 c.
Федоров А.В. Сравнительный анализ медийных стереотипов времен «холодной войны» и идеологической конфронтации (1946-1991) // Медиаобразование. 2009. № 4. С.62-85.
Федоров А.В. Структура медийных стереотипов эпохи идеологической конфронтации (1946-1991) // Медиаобразование. 2009. № 3. С.61-86.
Философский энциклопедический словарь. М., 1983.С.348.
Фрейд З. Неудовлетворенность культурой // Искусство кино. 1990. № 12. С.18-31.
Холодная война и политика разрядки: дискуссионные проблемы / Отв. ред. Чубарьян А.О., Егорова Н.И. М.: ИВИ РАН, 2003.
Холодная война, 1945 – 1963: историческая ретроспектива / Отв. ред. Чубарьян А.О., Егорова Н.И. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003.
Хоста М., Верховский А., Владимиров В. «Шпионский фильм». 2002.
Цыганков П.А., Фоминых В.И. Антироссийский дискурс Европейского Союза: причины и основные направления // Общественные науки и современность. 2009. № 2. С.36-47.
Цыркун Н.А. Но нельзя рябине... // Искусство кино. 2008. № 1.
Шатерникова М.С. Откуда взялся маккартизм // Вестник. 1999. №9.
Шемякин Я.Г. Динамика восприятия образа России в западном цивилизационном сознании // Общественные науки и современность. 2009. № 2. С.5-22.
Шенин С.Ю. История холодной войны. Саратов: Изд-во Саратов. гос. ун-та 2003. 32 с.
Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб: Симпозиум, 2005. 502 с.
Юренев Р.Н. Так победим! // Советское искусство. 1950. 27 июня.
Ямпольский М.В. Полемические заметки об эстетике массового фильма//Стенограмма заседания «круглого стола» киноведов и кинокритиков, 12-13 октября 1987. М.: Союз кинематографистов,1987. С.31-44.
Приложение 1.
Таблица 1. Цифровые данные по западным игровым фильмам, связанным с российской тематикой (1946-2009). Составитель – А.В.Федоров
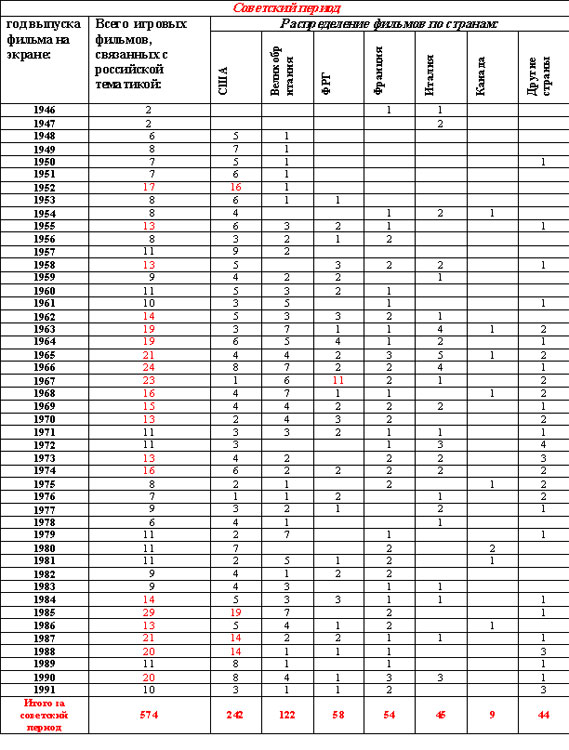
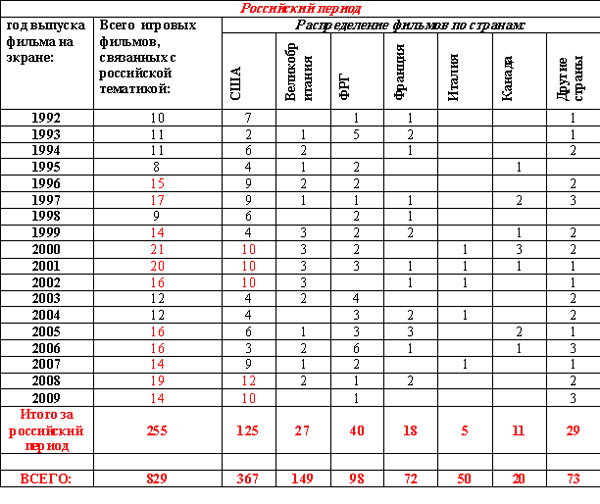 Приложение 2.
Таблица 2. Цифровые данные по жанрам западных игровых фильмов, связанных с российской тематикой (1946-2009). Составитель – А.В.Федоров
Приложение 2.
Таблица 2. Цифровые данные по жанрам западных игровых фильмов, связанных с российской тематикой (1946-2009). Составитель – А.В.Федоров
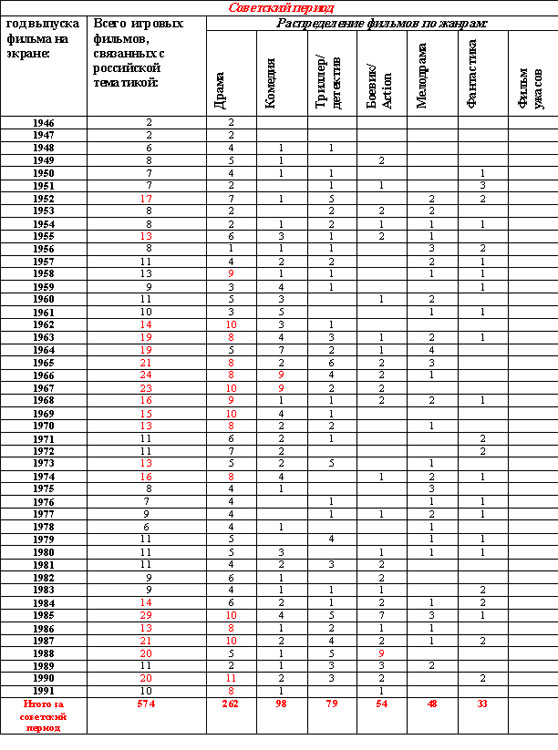
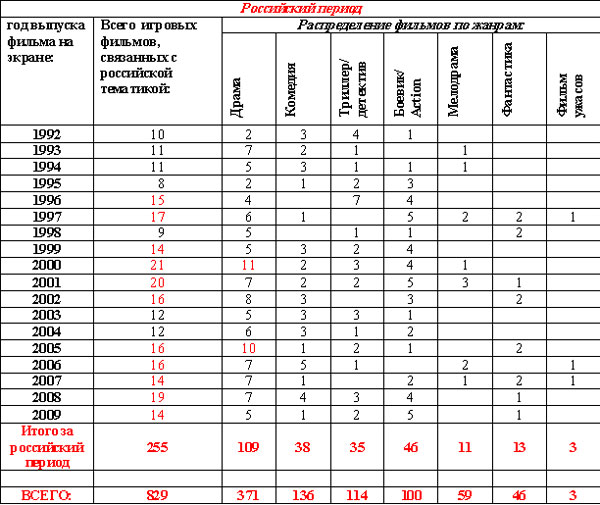 Приложение 3
Таблица 3. Цифровые данные по западным игровым фильмам, связанным с советской/российской тематикой и советским фильмам на западную тему (1946-1991). Составитель – А.В.Федоров
Приложение 3
Таблица 3. Цифровые данные по западным игровым фильмам, связанным с советской/российской тематикой и советским фильмам на западную тему (1946-1991). Составитель – А.В.Федоров
 * Соотношение между западными игровыми фильмами, связанными с советской/российской тематикой и советскими фильмами на западную тему (1946-1991): 574 (западных) и 128 (советских).
Приложение 4.
Таблица 4. Ключевые даты и политические события в мире, важные для развития российско-западных отношений (1946-2009)
* Соотношение между западными игровыми фильмами, связанными с советской/российской тематикой и советскими фильмами на западную тему (1946-1991): 574 (западных) и 128 (советских).
Приложение 4.
Таблица 4. Ключевые даты и политические события в мире, важные для развития российско-западных отношений (1946-2009)
Составитель – А.В.Федоров
Советский период
1946 год: Речь У.Черчилля в Фултоне (США) – 3 марта.
Британская радиостанция «Би-Би-Си» начинает русскоязычное вещание на СССР.
Ввод и вывод советских войск в Иран и из Ирана – март-май.
В СССР принимаются «антикосмополитические» постановления «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре драматических театров и мерах по их улучшению» и «О выписке и использовании иностранной литературы» - август-сентябрь.
1947 год: США создают русскую редакцию «Голоса Америки», начинается русскоязычное вещание на СССР - 17 февраля.
Президент США Г.Трумен выдвигает задачу сдерживания продвижения коммунизма в Европе. – 12 марта.
На мероприятии, посвященном созданию Комиинформа, А.Жданов заявляет о разделении мира на два лагеря – империалистический (во главе с США) и антиимпериалистический (во главе с СССР) – 22-27 сентября.
В США (Вашингтон) начинаются слушания Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности на тему проникновению коммунистов в Голливуд – 20 октября.
Под давлением СССР европейские страны «социалистической ориентации» отказываются от американского Плана Маршалла, предусматривавшего экономическую помощь пострадавшим от войны странам.
1948 год: СССР начинает блокаду Западного Берлина – 21 июня.
Антиюгославское заявление Комиинформа – 28 июня.
СССР начинает глушение передач «Би-Би-Си», «Голоса Америки» и др. западных радиостанций на русском языке на территории СССР.
1949 год: Подписание Североатлантического пакта НАТО – 4 апреля.
Окончание СССР блокады Западного Берлина – 11 мая.
В СССР разработан «План мероприятий по усилению антиамериканской пропаганды на ближайшее время» - апрель-май.
СССР проводит первые испытания ядерной бомбы. – 29 августа.
Официальный разрыв между СССР и Югославией – 28 сентября.
Создание радиостанции «Свободная Европа», призванной вести антикоммунистическую пропаганду.
1950 год: Американский сенатор Дж.Маккарти заявляет, что располагает списком из 205 коммунистов, работающих в государственном аппарате США. Пик антикоммунистической эпохи «маккартизма», в своей активной фазе длившейся еще четыре года - февраль.
Северная Корея нападает на Южную Корею – 25 июня. В начавшейся корейской войне СССР поддерживает Северную Корею, а США – Южную.
1951 год: СССР на заседании ООН выступает с предложением о перемирии в Корейской войне – 23 июня. Официальные переговоры на эту тему – с 10 июля.
1952 год: СССР выступает с предложением объединения Германии – 10 марта.
1953 год: В ФРГ начинается трансляция русскоязычных передач радиостанции «Освобождение» (в дальнейшем – «Свобода»), направленных на территорию СССР – 1 марта.
Смерть И.В.Сталина - 5 марта.
В США казнят супругов Розенбергов, обвиненных в шпионаже в пользу СССР – 19 июня.
Окончание корейской войны – 23 июля.
СССР проводит испытания водородной бомбы. – 29 августа.
1954 год: Конец войны в Индокитае, длившейся с 1945 года.
1955 год: Подписание пакта о военном Варшавском договоре, куда входят восточно-европейские страны (кроме Югославии) во главе с СССР – 14 мая.
Выступление Н.С.Хрущева в Белграде, положившее конец советско-югославскому конфликту, – 27 мая.
Переговоры о разрядке международной напряженности между Н.С.Хрущевым и президентом США Д.Эйзенхауэром в Женеве. – 18-23 июля.
Установление дипломатических отношений между СССР и ФРГ – 9-13 сентября.
Договор между СССР и ГДР, определяющий статус советских войск на территории ГДР – 20 сентября.
1956 год: Речь Н.С.Хрущева на XX съезде КПСС, разоблачающая «культ личности» И.В.Сталина - 25 февраля.
Роспуск Комиинформа – 17 апреля.
Суэцкий кризис в Египте – 30 октября-22 декабря.
Антикоммунистическое восстание в Венгрии и подавление его советскими войсками – 23 октября – 9 ноября.
1957 год: Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве – 28 июля-11 августа.
Американская выставка в Москве.
СССР испытывает первую межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь территории США.
СССР выводит на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли - 4 октября.
1958 год: Присуждение фильму М.Калатозова и С.Урусевского
«Летят журавли» главного приза Каннского фестиваля – «Золотая пальмовая ветвь» - май.
Выставка американских абстракционистов в Москве.
Присуждение Нобелевской премии по литературе Б.Л.Пастернаку – «За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа» («Доктор Живаго»). Травля Б.Л.Пастернака со стороны властей СССР и верхушки Союза писателей.
Исключение Б.Л.Пастернака из Союза писателей СССР - 27 октября.
1959 год: Победа прокоммунистически настроенных революционеров на Кубе – 1 января.
Открытие Американской выставки в Москве - 25 июля.
Проведение Первого Московского международного кинофестиваля – 3-17 августа.
Переговоры Н.С.Хрущева и Д.Эйзенхауэра в США – 15-27 сентября.
1960 год: В небе СССР сбит самолет-шпион американского летчика Пауэрса -1 мая.
1961 год: Н.С.Хрущев направляет ноту протеста президенту США Дж.Кеннеди, связанную с высадкой антикастровского десанта на Кубе – 8 апреля.
СССР выводит на орбиту Земли первый в мире космический корабль с человеком на борту - 22 апреля.
Начало строительства Берлинской стены – 13 августа.
1962 год: После начала установки советских ракет на Кубе США объявляют морскую блокаду острова. Начинается политически напряженный Карибский кризис, который заставляет СССР убрать ракеты с Кубы в обмен на обещание США отказаться от оккупации «Острова Свободы» – 14 октября-20 ноября.
1963 год: СССР и США заключают договор о создании «горячей» телефонной линии между Москвой и Вашингтоном – 20 июня.
СССР временно отменяет глушение передач «Голоса Америки», «Би-Би-Си» и «Немецкой волны» на русском языке на территории СССР.
Убийство президента США Дж.Кеннеди в Далласе – 24 ноября.
1964 год: США начинает войну во Вьетнаме – 2 августа.
1965 год: СССР поставляет Северному Вьетнаму ракетное вооружение – 5 апреля.
1966 год: Франция выходит из военной организации НАТО.
Визит президента Франции генерала Де Голля в Москву 20 июня – 1 июля.
1967 год: Шестидневная война на Ближнем Востоке, разрыв дипломатических отношений Израиля и СССР - 5-10 июля.
1968 год: СССР возобновляет глушение передач «Голоса Америки» и др. западных радиостанций на русском языке на территории СССР – 20 августа.
Вторжение советских войск в Чехословакию – 21 августа.
1969 год: Высадка американских астронавтов на Луну – 20 июля.
Начало советско-американских переговоров об ограничении стратегических ядерных вооружений – 17 ноября.
1970 год: ФРГ признает легитимность послевоенных границ в Европе – 12 августа.
Присуждение Нобелевской премии по литературе А.И.Солженицину.
1971 год: Великобритания обвиняет 105 советских дипломатов в шпионаже.
1972 год: Визит президента США Никсона в СССР. Подписан договор об ограничении противоракетной обороны и по совместной космической программе “Союз» - «Аполлон» – 22-30 мая.
Подписан торговый договор между СССР и США – 18 октября.
1973 год: В Хельсинки открывается Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. – 3 июля.
СССР временно отменяет глушение передач «Голоса Америки» и др. западных радиостанций на русском языке на территории СССР – 10 сентября.
В Чили в результате мятежа убит Президент Альенде, в власти приходит генерал Пиночет – 11 сентября.
В Париже опубликован первый том антисоветской/антикоммунистической книги А.И.Солженицина «Архипелаг ГУЛАГ» - декабрь.
1974 год: А.И.Солженицин выслан из СССР – 13 февраля.
Визит президента США Р.Никсона в СССР. Подписан договор об ограничении подземных ядерных испытаний – 3 июля.
Стыковка космических кораблей «Союз» и «Аполлон» – 15-19 июля.
Отставка президента США Р.Никсона – 8 августа.
Визит президента США Дж.Форда в СССР - 23-24 ноября.
1975 год: СССР отказывается от торгового договора с США, протестуя против заявлений американского конгресса по вопросу еврейской эмиграции. – 15 января.
Окончание войны во Вьетнаме – 30 апреля.
СССР вместе с 35 странами подписывает в Хельсинки Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе – 1 августа.
Одному из самых активных российских диссидентов – академику А.Д.Сахарову присуждена Нобелевская премия Мира.
1976 год: СССР и США заключают договор о запрещении подземных ядерных взрывов в мирных целях мощностью свыше 150 кт. – 28 мая.
1977 год: Открытие Белградской конференции по контролю за выполнением решений Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе – 4 октября.
1978 год: Государственный переворот в Афганистане, поддержанный СССР – 17 апреля.
1979 год: СССР и США заключают договор об ограничении стратегических наступательных вооружений – 18 июня.
Второй государственный переворот в Афганистане, снова поддержанный СССР – 16 сентября.
СССР вводит войска в Афганистан, Начало афганской войны – 16-27 декабря.
1980 год: США откладывают ратификацию договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, заявляют о бойкоте Олимпийских игр в Москве и объявляют эмбарго на поставки в СССР современных технологий и зерна – 4 января.
Академик А.Д.Сахаров сослан в город Горький. Указом Президиума Верховного Совета СССР был лишён звания трижды Героя Социалистического труда и постановлением Совета Министров СССР — звания лауреата Сталинской (1953) и Ленинской (1956) премий – 22 января.
Проведение Олимпийских игр в Москве – 19 июля-3 августа.
СССР возобновляет глушение передач «Голоса Америки» и др. западных радиостанций на русском языке на территории СССР – 20 августа.
Пик движения «Солидарность» в Польше – 31 августа.
Мировые цены на нефть достигают максимального в советскую эпоху пика - 41 доллар за баррель - ноябрь.
1981 год: Президент США Р.Рейган отменяет эмбарго на поставки зерновых в СССР – 24 апреля.
США начинает производство нейтронного оружия.
Подписание контракта между СССР и ФРГ на поставку сибирского газа в Западную Германию - 20 ноября.
Введение военного положения в Польше – 13 декабря.
Заявление президента США Р.Рейгана по поводу недопустимости вмешательства СССР в дела Польши, объявление новый санкций против СССР – 29 декабря.
1982 год: Подписание контракта между СССР и Францией на поставку сибирского газа - 23 января.
Смерть Л.И.Брежнева, приход к власти Ю.В.Андропова – 10 ноября.
Президент Р.Рейган отменяет санкции, введенные им в связи с событиями в Польше – 13 ноября.
1983 год: Франция высылает в СССР 47 советских дипломатов, обвиненных в шпионаже – 5 апреля.
Визит в СССР канцлера ФРГ Г.Коля – 4-6 июля.
Над территорией СССР сбит южнокорейский гражданский самолет – 1 сентября.
Ю.В.Андропов выступает с заявлением, направленным против развертывания ракет «Перщинг-2» в Европе и отменяет мораторий на развертывание ядерных ракет средней дальности – 24 ноября.
1984 год: В Стокгольме открывается конференция по разоружению в Европе – 17 января.
Смерть Ю.В.Андропова, приход к власти К.У.Черненко – 9 февраля.
Заявление о Бойкоте СССР Олимпийских игр в Лос-Анджелесе – 8 мая.
Визит в СССР президента Франции Ф.Миттерана – 21-23 июня.
СССР заявляет протест против американской военной программы «Звездных войн» - 29 июня.
Визит члена политбюро М.С.Горбачева в Великобританию, его встреча с Премьер-министром М.Тэчер – 15-21 декабря.
1985 год: Смерть К.У.Черненко, приход к власти М.С.Горбачева – 10 марта.
Возобновление переговоров об ограничении вооружений в Женеве - 12 марта.
Встреча М.С.Горбачева и Р.Рейгана в Женеве – 19-21 ноября.
1986 год: Авария на Чернобыльской атомной станции – апрель.
Трехкратное падение мировых цен на нефть (с 29 долларов за баррель, отмеченных в предыдущем году, до 10 долларов), резко усилившее экономический кризис в СССР - июнь.
Н.С.Горбачев объявляет о начале «перестройки» - июнь.
Визит в СССР президента Франции Ф.Миттерана – 7-10 июля.
Встреча М.С.Горбачева и Р.Рейгана в Рейкьявике – 11-12 октября.
Открытие Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене – 4 ноября.
Академик А.Д.Сахаров возвращается из ссылки в Москву – декабрь.
1987 год: Визит М.Тэчер в СССР – 28 марта-1 апреля.
СССР отменяет глушение большинства западных радиостанций на своей территории - 23 мая.
Восемнадцатилетний пилот-любитель Матиас Руст совершил нелегальный перелет из Гамбурга (через Хельсинки) в Москву (он приземляется практически на Красной площади) – 27 мая.
Визит М.С.Горбачева в Вашингтон. Подписание договора о ликвидации ядерных ракет средней дальности – 1-10 декабря.
М.С.Горбачев объявлен на Западе Человеком года.
Мировые цены на нефть в целом остаются низкими, что приводит к дальнейшему падению экономики СССР и уровня жизни его населения.
1988 год: Начало вывода советских войск из Афганистана – 15 мая.
Встреча М.С.Горбачева и Р.Рейгана в Москве – 29 мая – 2 июня.
Визит в СССР канцлера ФРГ Г.Коля – 24-27 октября.
Визит в СССР президента Франции Ф.Миттерана – 25-26 ноября.
СССР отменяет глушение радиостанции «Свободная Европа» на своей территории - 30 ноября.
Визит М.С.Горбачева в Нью-Йорк (ООН). Его заявление о сокращении советских вооруженных сил и начале вывода советских войск из Восточной Европы – 6-8 декабря.
Мировые цены на нефть в целом остаются низкими, что приводит к дальнейшему падению экономики СССР и уровня жизни его населения, стремлению наиболее активной его части к разрешенной теперь эмиграции на Запад.
1989 год: Окончание вывода советских войск из Афганистана – 15 февраля.
Президентом США становится Дж.Буш-ст.
Многочисленные встречи М.С.Горбачева с западными лидерами (в том числе с президентом США Дж.Бушем-ст.) и его заявления о дальнейшем разоружении.
Журнал «Новый мир» впервые в СССР начинает публикацию книги А.И.Солженицина «Архипелаг ГУЛАГ» - июль.
Начало разрушения Берлинской стены – 9 ноября.
Свержение режима Т.Живкова в Болгарии – 10 ноября.
Победа «Бархатной революции» в Чехословакии – 24 ноября.
Победа антикоммунистической оппозиции на выборах в Венгрии – 26 ноября.
Победа антикоммунистических сил в Румынии – декабрь.
Смерть академика А.Д.Сахарова – 14 декабря.
Мировые цены на нефть в целом остаются низкими, что приводит к дальнейшему падению экономики СССР и уровня жизни его населения.
1990 год: СССР дает согласие на объединение Германии – 30 января.
Многочисленные встречи М.С.Горбачева с западными лидерами.
СССР дает согласие на вхождении объединенной Германии в НАТО – 14-16 июля.
М.С.Горбачёву присуждена Нобелевская премия Мира.
Мировые цены на нефть в целом остаются низкими, что приводит к дальнейшему падению экономики СССР и уровня жизни его населения.
1991 год: Война в Кувейте между США и Ираком – 16-19 января.
Мировые цены на нефть остаются низкими, что приводит к дальнейшему падению экономики СССР и уровня жизни его населения.
Ликвидация военного блока стран Варшавского договора – 1 июля.
Попытка государственного переворота в СССР – 19-21 августа.
Фактический роспуск СССР – 8 декабря.
Добровольная отставка М.С.Горбачева с поста Президента СССР, переход власти к Б.Н.Ельцину – 25 декабря.
Официальная ликвидация СССР - 26 декабря.
Российский период
1992 год: Отмена государственного регулирования цен в России, гиперинфляция рубля – 1 января. Резкое расширение потока эмиграции россиян на Запад.
Начало приватизации (ваучеры) государственного имущества в России.
США принимают пророссийский «Акт в Поддержку Свободы»: Freedom for Russia and Emerging Eurasian Democracies and Open Markets, создающий основу для экономической помощи ослабленной кризисом экономики России.
Визиты Президента России Б.Н.Ельцина в США – февраль, июнь.
1993 год: Президентом США становится Б.Клинтон – 20 января.
Встреча Б.Н.Ельцина и Б.Клинтона в Канаде - 3-4 апреля.
Б.Н.Ельцин разгоняет Российский парламент (Верховный совет). Американская телекомпания CNN в прямом эфире транслирует вооруженный штурм мятежного Белого Дома (здания Верховного Совета) в Москве, предпринятого частями российского спецназа и танками. Сторонники мятежного парламента делают попытку захватить здание телевидения в Останкино – 3-4 октября.
1994 год: Визит президента США Б. Клинтона в Россию – 12-15 января.
Первая совместная российско-американская программа космических кораблей многоразового использования.
Вывод российских войск из Германии – 1 сентября.
Начало первой войны в Чечне 11-31 декабря.
Визит Президента России Б.Н.Ельцина в США - 27-29 сентября
1995 год: Встреча политических лидеров США и России в Москве, на которых принято шесть совместных заявлений, в том числе о необратимости процесса сокращения ядерного оружия – 10 мая.
Встреча Б.Н.Ельцина и Б.Клинтона в Канаде – 16 июня.
Чеченские террористы захватывают заложников в больнице Буденновска – 14-19 июня.
Встреча Б.Н.Ельцина и Б.Клинтона в США – 23 октября.
1996 год: Встреча Б.Н.Ельцина и Б.Клинтона в Москве – 21 апреля.
Президентские выборы в России, на которых Б.Н.Ельцин в двух турах с большим трудом победил лидера коммунистов Г.Зюганова – 16 июня-3 июля.
Окончание первой войны в Чечне - Россия и Чечня подписывают мирное соглашение. Начинается вывод российских войск из Чечни – 31 августа.
1997 год: Президент России Б.Н.Ельцин, Генеральный секретарь НАТО, главы государств и правительств НАТО подписывают в Париже «Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между НАТО и Российской Федерацией» – 27 мая.
1998 год: Встреча Б.Н.Ельцина и Б.Клинтона в Бирмингеме –17 мая.
Резкий обвал курса рубля по отношению к мировым валютам, дефолт – 17 августа.
Визит президента США Б. Клинтона в Россию – 1-3 сентября.
США наносят воздушные удары по Ираку – 16-19 декабря.
Запуск Международной космической станции.
1999 год: Постепенное повышение мировых цен на энергоносители приводит к началу роста экономики России, продолжавшемуся до августа 2008 года.
США и НАТО проводят военную операцию в Югославии, направленную на защиту албанского анклава в Косово.
Начало второй войны в Чечне – 30 сентября.
Встреча Б.Н.Ельцина и Б.Клинтона в Стамбуле –18 ноября.
Отставка Б.Н.Ельцина с поста Президента России – 31 декабря.
2000 год: В.В.Путин избран Президентом России - 26 марта
Визит Президента Клинтона в Россию – 3-5 июня.
Встреча В.В.Путина и Б.Клинтона в США. Принято Совместное заявление «Инициатива по сотрудничеству в области стратегической стабильности» – 6 сентября.
2001 год: Президентом США становится Дж.Буш-мл. – 20 января.
Первая встреча (Любляна) Президента США Дж.Буша-мл. и Президента России В.В.Путина – 16 июня.
Авиационные теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне – 11 сентября.
США начинают войну в Афганистане – 7 октября.
Визит В.В.Путина в США – ноябрь.
2002 год: Визит президента США Дж.Буша-мл. в Россию – 23-26 мая.
Создание Совета «НАТО-Россия».
США денонсируют договор по ограничению противоракетной обороны – 13 июня.
Захват чеченскими террористами заложников в Доме культуры во время музыкального спектакля «Норд-Ост» в Москве – 23-26 октября.
Визит президента США Дж.Буша-мл. в Россию – ноябрь.
2003 год: США начинают войну в Ираке – 20 марта.
Визит президента США Дж. Буша в Россию (Санкт-Петербург) - 31 мая - 1 июня.
Встреча Дж.Буша-мл. и В.В.Путина в США – 26-27 сентября.
2004 год: Захват чеченскими террористами заложников школе города Беслана – 1-3 сентября.
Первый официальный визит президента России В.В.Путина в США - 13-16 ноября.
Победа «Оранжевой революции» на Украине – ноябрь-декабрь.
2005 год: Встреча президентов Дж.Буша-мл. и В.В.Путина в Братиславе - 24 февраля.
Теракты в лондонском метро – 7 июля.
Иран возобновляет программу обогащения урана и отказывается от переговоров с ЕС. Начало «иранского кризиса» - 8 августа.
Встреча президентов Дж.Буша-мл. и В.В.Путина в США - 16 сентября.
2006 год: «Газовый кризис» между Россией и Украиной – 1-4 января.
Президент России В.В.Путин заявляет об окончании контртеррористической операции в Чечне – январь.
Вице-президент США Р.Чейни в своей речи обвиняет Россию в использовании своих природных ресурсов в качестве внешнеполитического оружия давления, в нарушении Россией прав человека и в ее деструктивных действиях на международной арене. – 4 мая.
Саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге – 14-17 июля.
2007 год: Политический конфликт между США и Россией по поводу намерения США разместить в Польше и Чехии системы противоракетной обороны.
Министр обороны США Р.Гейтс заявляет, что США «следовало бы быть готовыми к возможному вооружённому конфликту с Россией» - 8 февраля.
Президент России В.В.Путин резко критикует внешнюю политику США на Совещании по мировой безопасности в Мюнхене – 10 февраля.
Президент России В.В.Путин подписывает Указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооружениях в Европе – 14 июля.
2008 год: Д.А.Медведев избран Президентом России - 2 марта.
Встреча Дж.Буша-мл. и В.В.Путина в Сочи – 5-6 апреля.
Мировые цены на нефть достигают нового пика - свыше 140 долларов за баррель - июль.
Вооруженный конфликт между Грузией и Россией, связанный с Южной Осетией и Абхазией - 8-16 августа.
С падением мировых цен на нефть (сначала до 100 долларов за баррель, а потом и ниже) и крушением ключевых кредитно-банковских консорциумов США начинается самый тяжелый со времен 1930-х годов мировой экономический кризис, особенно ощутимый в зависимой от экспорта нефти российской экономике – август.
Резкое понижение курса рубля (на 30%) по отношению к мировым валютам – август-декабрь.
Мировые цены на нефть резко (в 4,6 раза) падают – со 140 долларов за баррель в июле до 30 долларов за баррель в декабре.
2009 год: Президентом США становится Б.Обама, начало «перезагрузки» американо-российских отношений.
Очередной «газовый кризис» между Россией и Украиной – январь.
Мировые цены на нефть повышаются до 70 долларов за баррель - июнь.
Первый визит президента США Б.Обамы в Москву, его встречи с президентом России Д.А.Медведевым и премьер-министром В.В.Путиным - 6-7 июля.
Президент США Б.Обама объявляет об отмене решения США разместить в Польше и Чехии системы противоракетной обороны. Сентябрь.
Приложение 5. Образ Запада на российском экране в эпоху «холодной войны»: эскизы
Приложение 5.1. «Тайна двух океанов» - роман и его экранизация: идеологический и структурный анализ
В качестве примера анализа в идеологическом и социокультурном поле возьмем два популярных отечественных медиатекста – роман (1939) и фильм (1956)
«Тайна двух океанов». Это позволит нам выявить отличия как в общественно-историческом контексте времени создания этих медиатекстов, так и в их структуре.
Следуя методике, разработанной У.Эко, «выделим три «ряда», или «системы», которые значимы в произведении: идеология автора; условия рынка, которые определили замысел, процесс написания и успех книги (или, по крайней мере, способствовали и тому, и другому, и третьему); приемы повествования»
[Эко, 2005, с.209]. Такого рода подход, на наш взгляд, вполне соотносится с методикой анализа медиатекстов по К.Бэзэлгэт
[Бэзэлгэт, 1995] - с опорой на такие ключевые слова медиаобразования, как «медийные агентства» (media agencies), «категории медиа/медиатекстов» (media/media text categories), «медийные технологии» (media technologies), «языки медиа» (media languages), «медийные репрезентации» (media representations) и «медийная аудитория» (media audiences), так как все эти понятия имеют прямое отношение к идеологическим, рыночным и структурно-содержательным аспектам анализа медийных произведений.
Идеология авторов в социокультурном контексте (доминирующие понятия: «медийные агентства», «медийные репрезентации», «медийная аудитория»)
Здесь сразу придется оговориться, что под авторами мы будем понимать как писателя Г.Адамова (1886-1945), так и создателей экранизации его романа – сценаристов В.Алексеева, Н.Рожкова и режиссера/сценариста К.Пипинашвили (1912-1969). Несмотря на изначальный пафос коммунистической идеологии, отчетливо выраженный в романе (он был написан в 1938 и впервые опубликован в 1939 году), его экранная трактовка приобрела несколько смягченные черты, вызнанные постепенными переменами в тогдашнем советском социуме (фильм снимался в 1955 году, за год до знаменитой антисталинской речи Н.Хрущева).
Вот как резко обозначены идеологические приоритеты в романе Г.Адамова: «Павлик рос вдали от родины, далеко от ее радостной жизни, захватывающей борьбы с грозными силами природы и пережитками прошлых, рабских лет, далеко от ее побед и достижений. Шесть лет, таких важных для формирования человека, он провел в капиталистической Америке, в атмосфере вражды человека с человеком, рабочих с капиталистами, бедных с богатыми. Павлик жил одиноко, без матери, умершей в первый год после их переезда в тихий, патриархальный Квебек, без братьев и сестер, без друзей и товарищей. Неожиданно, пройдя через смертельную опасность, Павлик попал на советский подводный корабль, в тесный круг мужественных людей, в сплоченную семью товарищей, привыкших к опасностям, умеющих бороться с ними и побеждать. Они покорили его сердце своей жизнерадостностью, своей товарищеской спайкой, своей веселой дружбой и легкой и в то же время железной дисциплиной. Родина - сильная, ласковая, мужественная - приняла Павлика в тесных пространствах «Пионера». Она вдохнула в него новые чувства, вызвала в нем страстную жажду быть достойным ее, горячее желание подражать и быть похожим на ее лучших сынов, к которым он попал»
[Адамов, 1939].
Столь прямолинейных в своей идеологической лексике пассажей в фильме почти нет. Но основные атрибуты такого рода бережно сохранены. Не стоит забывать, что первая половина 50-х годов в Советском Союзе прошла под знаком так называемой «холодной войны». Вот почему идеологическая составляющая шпионской темы в экранизации по сравнению с романом значительно усилена. Правда, шпионаж в фильме лишился ясной служебной ориентации на конкретное государство. В 1938-1939 годах Япония была одним из наиболее вероятных военных противников коммунистического режима, и в романе Г.Адамова инженер Горелов представал коварным и жестоким японским шпионом. После поражения во второй мировой войне Япония, как известно, была лишена военной мощи, поэтому в фильме К.Пипинашвили шпион образца 1955 года приобрел космополитическую окраску. Так, впрочем, идеологически стало даже выгоднее. С одной стороны, Горелов мог быть не только американским, но и любым буржуазно-империалистическим шпионом. С другой стороны, соблюдена своего рода «политкорректность» - вражеская страна не называлась явно и определенно, шпион лишился отчетливого национального колорита.
Однако не стоит думать, что идеологическая «подкованность» - продукт исключительно коммунистического образца. В годы холодной войны столь же идеологически прямолинейно снимались, к примеру, и американские фильмы, где демократичным, дружелюбным и добрым американцам противостояли злобные агенты Кремля или их приспешники-предатели…
Советская идеологическая специфика – и в книге, и в фильме – проявлялась в другом: в авторской устремленности в светлое коммунистическое будущее, где самые лучшие и мощные в мире подлодки бороздят просторы мировых океанов, а страна всевозможных Советов становится свершением грандиозной утопической мечты о бесклассовом обществе равных потребностей и возможностей, обществе с беспредельными природными ресурсами, техническими и технологическими, с неисчерпаемым человеческим потоком самых передовых в мире рабочих, крестьян, ученых, моряков, пионеров и т.д.
Условия рынка, которые способствовали замыслу, про¬цессу создания и успеха медиатекста (доминирующие понятия: «медийные агентства», «категории медиа/медиатекстов», «медийные технологии», «медийная аудитория»).
Отечественный медийный рынок 30-х годов можно, наверное, разделить на два периода. В первой половине 30-х еще существовали очаги если не частной, то кооперативной собственности в издательском и киноделе. Во второй половине 30-х сталинская цензурная удавка затянулась практически мертвой петлей, выстроив в почетном карауле под знаменем соцреалиазма практически всех оставшихся в стране деятелей искусства. Что касается Г.Адамова, то его как большевика с дореволюционным стажем, и выстраивать не было нужды: его замыслы и помыслы всегда были в унисон «генеральной линии партии». Тоталитарный режим второй половины 30-х годов требовал от «мастеров культуры» беспощадной борьбы с врагами народа и шпионами на фоне устремленного в будущее строительства коммунизма и покорения природы. И Г.Адамов искренне ответил на этот призыв «Тайной двух океанов».
Вместе с тем, писатель ориентировался, прежде всего, на детско-юношескую аудиторию, отсюда рассчитанные на нее многостраничные описания подводного мира и разнообразных технических устройств подводной лодки.
Роман неплохо продавался, но, как и рассчитывал Г.Адамов, в основном его читали школьники. Вот почему авторы экранизации существенно изменили сюжет «Тайны…», чтобы сделать его более зрелищным и резко расширить зрительский возрастной спектр.
Единственным хозяином советского медийного рынка 50-х годов прошлого века было, как известно, государство. Планирование кинопродукции шло «сверху», без социологического учета вкусов и потребностей аудитории. Однако на уровне бытовой прагматики и интуиции руководство кинематографией не сводило экранную продукцию к стопроцентному аналогу партийных докладов. Как-никак, а кино наряду со спирто-водочной промышленностью было существенным источником государственного дохода. Отсюда и относительное жанровое разнообразие фильмов даже в период сталинского «малокартинья» (когда ежегодно выпускалось примерно от 7 до 18 отечественных лент) конца 40-х – начала 50-х годов. «При возможности выбора массовый зритель «голосовал» против историко-биографических фильмов, которые составляли главную часть производства в начале 1950-х годов. И наоборот наибольшей популярностью пользовались, находившиеся ранее в загоне – комедийные, приключенческие, детективные фильмы, картины на современные темы»
[Гольдин, 2000].Экранизация романа Г.Адамова создавалась во времена расширения кинопроизводства: в 1957 году на экраны страны вышло 144 полнометражных отечественных фильма. Поэтому государство могло себе позволить относительное разнообразие жанров. Во многих случаях речь шла о конкурентоспособной продукции. И в этих условиях ставка авторов на жанровый синтез детектива и фантастики полностью себя оправдала. «Тайна двух океанов» заняла почетное 6 место в первой десятке прокатных лидеров 1957 года.
Конечно, экранизация романа Г.Адамова находилась в тепличных условиях конкуренции, соперничая с десятками скучных «производственных» и «партийных» фильмов. Западные зрелищные ленты на советский экран тех лет допускались в минимальных количествах (а когда все-таки допускались, то, как правило, имели огромный успех). Однако даже по сравнению с «горячей десяткой» хит-парада советского кино 50-х (таб.1) показатели «Тайны двух океанов» (31,2 миллионов зрителей за первый год демонстрации) выглядят совсем неплохо.
Таб. 1. Лидеры отечественного проката 50-х годов XX века
1. Тихий Дон (1957) Сергея Герасимова. 46,9 млн. зрителей.
2. Любовь Яровая (1953) Яна Фрида. 46,4 млн. зрителей.
3. Над Тиссой (1958) Дмитрия Васильева. 45,7 млн. зрителей.
4. Карнавальная ночь (1956) Эльдара Рязанова. 45,6 млн. зрителей.
5. Свадьба с приданным (1953) Татьяны Лукашевич, Бориса Равенских. 45,3 млн. зрителей.
6. Застава в горах (1953) Константина Юдина. 44,8 млн. зрителей.
7. Иван Бровкин на целине (1959) Ивана Лукинского. 44,6 млн. зрителей.
8. Смелые люди (1950) Константина Юдина. 41,2 млн. зрителей.
9. Кубанские казаки (1950) Ивана Пырьева. 40,6 млн. зрителей.
10. Солдат Иван Бровкин (1955) Ивана Лукинского. 40,3 млн. зрителей.
Попутно отметим, что среди лидеров бокс-оффиса 50-х только две историко-революционные драмы. Преобладают более «легкие» жанры – комедии (5 фильмов) и приключенческие ленты (3 фильма).
Таким образом, авторы экранизации добились своей главной цели – ощутимого зрительского успеха, вызванного не только удачным синтезом детективного и фантастического жанров, но и высоким для того времени техническим уровнем спецэффектов и декораций.
Структура и приемы повествования в медиатексте (доминирующие понятия: «категории медиа/медиатекстов», «медийные технологии», «языки медиа», «медийные репрезентации»)
Мы полагаем, что как роман, так и его экранизация построены на несложных дихотомиях:
1) враждебный и агрессивный буржуазный мир и миролюбивый, дружный мир строителей светлого коммунистического общества;
2) положительные, идеологически правильные (т.е. верные коммунистическим идеям) персонажи и злодеи/шпионы;
3) героизм/самопожертвование и предательство;
4) честность/искренность и обман/коварство;
5) план и результат.
Поскольку один из главных персонажей романа и фильма – ребенок, сюда можно добавить такую производную дихотомию, как «наивность/невинность – опытность/искушенность».
Роман Г.Адамова был чисто мужским по составу персонажей, в фильме К.Пипинашвили появляется женщина-врач. Отсюда и новая дихотомия: женщина и злодей, кульминацией которой становится эффектная сцена, когда коварный шпион Горелов пытается утопить женщину в водолазном шлюзе подводной лодки.
Кроме основного лазутчика-предателя (в его роли снялся С.Голованов) появляется, правда, только в начале фильма, еще один (в колоритном исполнении М.Глузского), для чего сценаристам пришлось придумывать дополнительную сюжетную линию, связанную с предысторией появления шпиона Горелова на борту подлодки «Пионер».
«Инженер-профессионал с засекреченной подводной лодки – человек, понятное дело, доверчивый, как дитя, и совершенно беспечный, в то время как его брат-близнец, цирковой гимнаст – воплощение хитрости и коварства. Он заманивает невинного инженера и собственного единокровного брата под самый купол и сбрасывает вниз, на манеж, без всякого сожаления, чтобы потом переодеться в его китель и с удовольствием запускать в подводном бункере ракетоносители»
[Сорвина, 2007].
Таким образом, здесь неслучайно возникает «антураж цирка — места, традиционно облюбованного постановщиками «хорроров» [
Цыркун]. А эффектная история с убийством в цирке брата-близнеца придумана сценаристами взамен довольно невнятно написанной Г.Адамовым сюжетной линии о гореловских родственниках (дяди и невесты) в Японии. Наряду с линией второго матерого шпиона (М.Глузский) – с автомобильной погоней, рацией и ядом - эти сценарные новшества вытесняют из сюжета слишком подробно и дотошно описанный у Г.Адамова мир подводных растений, животных и технических устройств.
При этом особых сюжетно-детективных новшеств ни в романе, ни в фильме нет, так как «для детективных сюжетов, будь то сюжет-расследование или сюжет «крутого действия», типично не варьирование элементов, а именно повторение привычной схемы, в которой читатель мо¬жет распознать нечто уже прежде виденное и доставляющее удовольствие. Прикидываясь машиной, производящей информацию, детективный роман — это, напротив, машина, производящая избыточность. Якобы возбуждая читателя, детектив на самом деле укрепляет в нем своего рода леность воображения, поскольку повествует не о Неведомом, а об Уже-известном»
[Эко, 2005, с.263]. Таким образом, «налицо парадокс: те самые «детективы», которые как будто предназначены для удовлетворения интере¬са к непредвиденному и сенсационному, на самом деле «по¬требляются» по причинам прямо противоположным — как пригласительные билеты в спокойный мир, где все знако¬мо, просчитано и предвидено. Неведение о том, кто пре¬ступник, становится моментом второстепенным, почти что предлогом. Более того, в «детективах действия» (в которых итерационные схемы торжествуют столь же, сколь и в «детективах расследования») напряжение (suspense), связанное с поиском преступника, зачастую вообще отсутствует: мы следим не за тем, как отыскивается преступник, — мы следим за «топосными» поступками «топосных» персонажей, определенный образ поведения которых мы уже полюбили» [Эко, 2005, с.199].
Впрочем, то, что нам кажется профессиональной ориентацией авторов фильма на жанровую привлекательность, может быть расценено совсем иначе. К примеру, «Учительская газета» в 1957 году выступила в защиту адамовской сюжетной конструкции: «Авторы картины решили, видимо, что талантливый роман Г. Адамова недостаточно драматичен, насыщен действием, и переписали его по-новому. И вот из увлекательного научно-фантастического повествования получилась заурядная «детективная» киноистория. …А жаль! Советский зритель всегда с нетерпением ждет встречи на экране с героями полюбившихся ему произведений. Встречи именно с живыми людьми, а не с условными фигурами, претендующими на сходство с их однофамильцами из книг» [Учительская газета, 1957].
Насчет живых людей в рецензии «Учительской газеты» явный перебор: как в романе, так и в его экранизации персонажи – стереотипные жанровые фигуры. Скажем, чего стоит одно только изображение злодеев: «Два человека склонились над картой. Их лица были неразличимы, в полумраке мерцали лишь глаза: одни — узкие, косо поставленные, тусклые, равнодушные; другие — большие, горящие, глубоко запавшие в черноту глазниц. Смутными контурами проступали фигуры этих людей. …Он был восково-бледен. Длинные тонкие губы посерели, изогнулись в натянутой, мертвой улыбке. В его глубоко запавших черных глазах стоял страх. Высокий лоб был покрыт мелкими каплями пота…» [Адамов, 1939].
В этой связи М.Сорвина точно подмечает, что «здесь можно наблюдать одну парадоксальную, но лишь подтверждающую тенденцию особенность: Горелов не выглядит ни магическим, ни обаятельным – авторы картины выстраивают его харизму исключительно с помощью драматургии и деталей, они этого героя буквально презентуют, навязывают зрителю как личность сильную, яркую, привлекательную и, разумеется, обманчивую. … Не случайно в самом начале фильма Горелов все время одерживает верх. Он самый сильный – в кулачном поединке с советским секретным агентом (Игорь Владимиров), самый умный – в советах глуповатому капитану (Сергей Столяров) и логических играх с мальчиком. Именно к нему тянется единственный ребенок, а доверие ребенка – критерий для доверия зрителя. Этот герой – рыцарь без страха и упрека, у него как будто нет недостатков. И зритель не задается вопросом, почему он физически сильнее всех в команде и знает упражнения на концентрацию внимания. В то время зритель еще не был искушен в вопросах кинематографических клише. Ни разу никто не подозревает Горелова в вероломстве, а это говорит лишь о том, что человек этот умеет маскироваться в силу своей профессии»
[Сорвина, 2007].
С другой стороны, в фильме «под смешной фамилией Скворешня скрывался майор госбезопасности, который так славно играл на аккордеоне в матросском кубрике. В середине 50-х годов образы железных гебистов явно смягчились. Повеяло теплыми ветрами оттепели» [
Цыркун].
Со временем оказалось, что «Тайна двух океанов» может быть трактована даже с точки зрения фрейдизма: «Для психоанализа роман Адамова - идеальный объект. Во-первых, этот источник не замутнен ни малейшим писательским даром. Во-вторых, и это более важно, психоанализа жадно требует сама природа жанра - фантазия, мечта. Не только немецкое traum, английское dream, но и классическое русское слово «греза» имеют, кроме значения «мечта», еще и второе – первоначальное – «сновидение». И, следовательно, анализ литературной фантастики есть частный случай толкования сновидений. … Будь Адамов немножко внимательнее (или искушеннее), он бы понял, что на лодке царит атмосфера жизнерадостного гомосексуализма»
[Бар-Селла, 1996].
На наш взгляд, последний пассаж слишком радикален и ироничен, но он еще раз подтверждает правоту У.Эко: «Тексты, нацеленные на вполне определенные реакции более или менее определенного круга читателей (будь то дети, любители «мыльных опер», врачи, законопослушные граждане, представители моло¬дежных «субкультур», пресвитерианцы, фермеры, женщи¬ны из среднего класса, аквалангисты, изнеженные снобы или представители любой другой вообразимой социо-психологической категории), на самом деле открыты для всевозможных «ошибочных» декодирований»
[Эко, 2005, с.19]. Так что мы никоим образом не настаиваем на истинности своей трактовки анализируемых медиатекстов.
Особого разговора заслуживают приемы изобразительного языка романа и фильма. Язык романа Г.Адамова то близок к газетно-очерковому («Капитан пробежал строки радиограммы и поднял бледное лицо. Он повернулся к застывшей команде, окинул глазами этих людей, ставших ему такими близкими и дорогими в течение трехмесячного незабываемого похода, и, взмахнув листком, воскликнул: «Слушать радиограмму Центрального Комитета Коммунистической партии и правительства!»), то вдруг наполняется цветистыми описаниями подводной живности («Проплыла прозрачная, как будто вылитая из чистейшего стекла ... медуза. Ее студенистое тело было окаймлено нежной бахромой, а из середины опускались, развиваясь, как пучок разноцветных шнурков, длинные щупальца. ... Возле одного из этих нежных созданий мелькнула маленькая серебристая рыбка, и вмиг картина изменилась. ... Щупальца сжались, подтянулись под колокол, ко рту медузы, и в следующее мгновение Павлик увидел уже сквозь ее прозрачное тело темные очертания пеpеваpиваемой рыбки; целиком она не поместилась в желудке медузы, и хвост торчал еще через рот наружу»).
Аудиовизуальный язык фильма куда более интересен. Настолько, что в черно-белом контратипе позволил искушенному киноведу провести аналогии с популярным на Западе в конце 40-х жанров film noir. «Случилось так, - пишет Н.Цыркун, - что «Тайну двух океанов» я всегда видела в черно-белых копиях, и в памяти засел классический «черный фильм» со всеми надлежащими атрибутами: темные улицы в предрассветный час, развевающиеся от ветра занавески на окнах, блестящая после дождя мостовая, искаженное злобное лицо, снятое через ветровое стекло мчащегося на бешеной скорости автомобиля; на звуковой дорожке — обрывки радиосигналов, скрип тормозов... Все это было предъявлено в первых эпизодах. Неизвестный в черном дождевике звонит в квартиру одинокого музыканта, требует передать по рации сообщение в Центр (передатчик закамуфлирован в рояле; шпионское донесение кодируется музыкальными фразами. Реализовано кодовое обозначение агента-радиста словом «пианист», причем трудно сказать — ирония это или нечаянность). Снова звонок в дверь — это госбезопасность. Музыкант спускает гостя из окна с помощью стальной рулетки, а сам принимает снадобье и имитирует смерть. Агенты увозят «труп», который таинственно исчезает по пути...
Со временем выяснилось, что никакой «черный фильм» как жанр у нас не состоялся, и курьез с черно-белыми копиями надо отнести по графе «О роли киномеханики в истории кино, или Еще раз о рецепции» [
Цыркун].
Но как знать, как знать… возможно, ГИКовский ученик С.М.Эйзенштейна Константин Пипинашвили как раз и продемонстрировал в своей работе «закодированное» знание западных аналогов жанра, репрезентацию (переосмысление) визуальных образов и символики film noir в (пере)насыщенной цветовой гамме.
Добавим сюда и мастерское использование, в самом деле, авангардной для отечественной киномузыки тех лет, таинственной мелодии Алексея Мачавариани, чьи поклонники до сих пор восхищаются ею на страницах интернетных блогов…
Словом, в отличие от романа экранизация оказалась куда более востребованным продуктом. И полвека назад, и сегодня, когда даже известный автор «Видеогида» М.Иванов пишет на videoguide.ru: «Прекрасная, уютная картина, классика жанра. Идеально успокаивает нервы и поднимает настроение. Конечно, я смотрел ее в детстве и не один раз. Но не удержался и просмотрел в этом году для «Видеогида», так как оторваться просто невозможно».
Литература
Адамов Г.Б. Тайна двух океанов. М., 1939. http://lib.ru/RUFANT/ADAMOW/tajna1.txt
Бар-Селла З. Моление о чашке [О творчестве Г. Адамова]//Миры. 1996. №1. С.67-72.
Бэзэлгэт К. Ключевые аспекты медиаобразования. М.: Изд-во Ассоциации деятелей кинообразования, 1995. 51 с.
Гольдин М.М. Опыт государственного управления искусством. Деятельность первого отечественного Министерства культуры. М., 2000.
Иванов М. Тайна двух океанов.
Клугер Д. Потерянный рай шпионского романа//Реальность фантастики. 2006. № 8.
Поступальская М. Г.Б.Адамов/Адамов Г.Б. Тайна двух океанов. М., 1959.
Сорвина М. Необъявленная война. 2007.
Тайна двух океанов//Учительская газета. 1957. № 42. 6 апр.
Цыркун Н. Тайна двух океанов.
Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб: Симпозиум, 2005. 502 с.
Приложение 5.2. «Человек-амфибия» - роман и его экранизация: анализ культурной мифологии медиатекста
Годами прикованный к постели тяжелой болезнью, писатель-фантаст Александр Беляев из повести в повесть создавал целую галерею персонажей, не вписывающихся в рамки традиционного мира с его политическими и социальными проблемами. С одной стороны это были романтические герои, способные жить под водой и летать как птицы. С другой – гениальные ученые, которым были подвластны любые научные эксперименты, пусть даже самые опасные и часто далекие от привычных моральных норм. Поразительно достоверные ощущения отрезанной от тела головы профессора Доуэля были не придуманы, а взяты А.Беляевым из собственной биографии. У парализованного писателя было время для неспешного обдумывания такого рода сюжетов. Но свободный полет Ариэля так и остался недостижимой мечтой Александра Беляева, завершившего свой жизненный пусть голодной смертью в оккупированном нацистами питерском пригороде…
Писателю не довелось увидеть свои произведения экранизированными. Однако уже первая киноадаптация его повести «Человек-амфибия» (1961) сразу преодолела ранее неприступную для отечественных лет планку в 60 миллионов зрителей (за первые 12 месяцев демонстрации в кинозалах) и была успешно продана в десятки стран мира. Чему, вероятно, помогли не только уникальные для своего времени подводные съемки и обаятельный дуэт
В.Коренева и А.Вертинской, но и то, что «Человек-амфибия» с его темой «ответственности за человеческую жизнь и судьбу, стал одним из символов только что начавшейся кратковременной эпохи «оттепели» [Харитонов, 2003].
Совсем неплохо экранизация «Человека-амфибии» смотрелась и в «горячей десятке» хит-парада российского кино 60-х (таб.1). Потеснив «Войну и мир» и первую серию «Неуловимых…», фильм Г.Казанского и В.Чеботарева занял почетное седьмое место по кассовым сборам, оказавшись единственным фантастическим фильмом среди девяти главных развлекательных лет десятилетия (трех комедий Л.Гайдая, четырех военно-приключенческих лент и одной оперетты).
Таб.1. «Горячая десятка» хит-парада российского кино 60-х годов
1. Бриллиантовая рука (1969) Леонида Гайдая. 76,7 млн.
2. Кавказская пленница (1967) Леонида Гайдая. 76,5 млн.
3. Свадьба в Малиновке (1967) Андрея Тутышкина. 74,6 млн.
4. Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965) Леонида Гайдая. 69,6 млн.
5. Щит и меч (1968) Владимира Басова. 68,3 млн.
6. Новые приключения Неуловимых (1969) Эдмонда Кеосаяна. 66,2 млн.
7. Человек-амфибия (1962) Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева. 65,4 млн.
8. Война и мир (1966) Сергея Бондарчука. 58 млн.
9. Сильные духом (1968) Виктора Георгиева. 55,2 млн.
10. Неуловимые мстители (1967) Эдмонда Кеосаяна. 54,5 млн.
Как верно подметил Д.Горелов, экранизация «Человека-амфибии» стала «первым суперблокбастером послесталинской эры. Такого обвала киносеть еще не видывала, любые «Подвиги разведчика» там рядом не стояли. … Случись грамотному продюсеру увидеть тот океан золота, что принес фильм об амфибии… Но Чеботарев с Казанским жили в диком, уродливом, безжалостном мире свободы, равенства и братства, где прибыль ничто, а штучное мастерство не ко двору. У дуэта поэтов-фантастов отняли легкие, посмеялись над жабрами и выплеснули вместе с их рыбой-ребенком в мировой океан. Критика выбранила их за легковесность и аттракционность в святой теме борьбы с капиталом… «Советский экран» впервые нагло сфальсифицировал результаты своего ежегодного читательского конкурса, отдав первенство серой и давным-давно дохлой драме… «Амфибию» задвинули аж на третье место, снисходительно пожурив читателей за страсть к знойной безвкусице» [Горелов, 2001].
Негативная реакция отечественной критики на фильм Г.Казанского и В.Чеботарева, впрочем, совпадает и с суровой критикой в адрес самого беляевского романа. Как писал В.Ю.Ревич, упрекавший писателя в бездарности и порочности научного подхода, «Беляева и поносили, и издавали, но читательский вкус беляевская фантастика успела испортить всерьез и надолго»
[Ревич, 1998].
Но анализ художественного уровня повести А.Беляева и ее экранизации – тема для отдельной статьи. В данном случае нас интересует иное – анализ культурной мифологии медиатекста (Cultural Mythology Analysis of Media Texts), то есть выявление и анализ мифологизации (в том числе в рамках так называемых фольклорных источников – сказок, «городских легенд» и т.д.) стереотипов фабул, тем, персонажей и т.д. в конкретном произведении.
В.Я.Пропп [Пропп, 1976; 1998], Н.М.Зоркая [Зоркая, 1981; 1994], М.И.Туровская [Туровская, 1979], О.Ф.Нечай [Нечай, 1993], М.В.Ямпольский [Ямпольский, 1987] и др. исследователи убедительно доказали, что для тотального успеха произведений массовой культуры необходим расчет их создателей на фольклорный тип эстетического восприятия, а «архетипы сказки и легенды, и соответствующие им архетипы фольклорного восприятия, встретившись, дают эффект интегрального успеха массовых фаворитов»
[Зоркая, 1981, с.116].
При этом стоит отметить, что исследователями не раз отмечалась неразрывность фольклора, сказки, легенды и мифа. Еще В.Я.Пропп был убежден, что с исторической точки зрения «волшебная сказка в своих морфологических основах представляет собою миф»
[Пропп, 1998, c.68]. Более того, «миф не может быть отличаем от сказки формально. Сказка и миф иногда настолько полно могут совпадать между собой, что в этнографии и фольклористике такие мифы часто называются сказками
[Пропп, 1998, с.124].
Действительно, успех у аудитории очень тесно связан с мифологическим слоем произведения. «Сильные» жанры – триллер, фантастика, вестерн – всегда опираются на «сильные» мифы»
[Ямпольский, 1987, с.41]. Взаимосвязь необыкновенных, но «подлинных» событий – один из основополагающих архетипов (опирающихся на глубинные психологические структуры, воздействующие на сознание и подсознание) сказки, легенды, - имеет очень большое значение для массовой популярности медиатекстов.
Исследовав сотни сказочных сюжетов, В.Я.Пропп выделил около тридцати типов основных событий и характеров персонажей с ограниченным набором их ролей, между которыми определенным образом распределяются конкретные герои со своими функциями. Каждый из действующих лиц/ролей (герой, ложный герой, отправитель, помощник, антагонист/вредитель, даритель, царевна или ее отец), имеет свой круг действий, т.е. одну или несколько функций
[Пропп, 1998, с.24-49].
В.Я.Пропп доказал также парность (бинарность) большинства событий/функций сюжетов (недостача - ликвидация недостачи, запрещение - нарушение запрета, борьба - победа и т. д.). При этом «многие функции логически объединяются по известным кругам. Эти круги в целом и соответствуют исполнителям. Это круги действий» [Пропп, 1998, с.60].
Дальнейшие исследования ученых
[Eco, 1960; Зоркая, 1981, 1994 и др.] доказали, что подходы В.Я.Проппа вполне применимы к анализу многих медиатекстов, включая практически все произведения массовой медиакультуры (литературные, кинематографические, телевизионные и пр.).
И верно, культурную мифологию можно легко обнаружить во множестве популярных медиатекстов – в них в той или иной мере чувствуются отголоски мифов и сказок об Одиссее, Циклопе, Сиренах, Аладдине, Золушке, Красной Шапочке, Бабе-Яге, Змее Горыныче, Синей Бороде и т.п. Безусловно, аудитория (например, школьная) может не замечать этого, но все равно неосознанно тянуться к сказочности, фантастическому действию, мифологическим героям…
Таким образом, можно прийти к выводу, что медиатексты популярной/массовой культуры своим успехом у аудитории обязаны комплексу факторов. Сюда входят: опора на фольклорные и мифологические источники, постоянство метафор, ориентация на последовательное воплощение наиболее стойких сюжетных схем, синтез естественного и сверхъестественного, обращение не к рациональному, а эмоциональному через идентификацию (воображаемое перевоплощение в активно действующих персонажей, слияние с атмосферой, аурой произведения), «волшебная сила» героев, стандартизация (тиражирование, унификация, адаптация) идей, ситуаций, характеров и т.д., мозаичность, серийность, компенсация (иллюзия осуществления заветных, но не сбывшихся желаний), счастливый финал, использование такой ритмической организации фильмов, телепередач, клипов, где на чувство зрителей вместе с содержанием кадров воздействует порядок их смены; интуитивное угадывание подсознательных интересов публики и т.д.
В качестве примера анализа одного из характерных медиатекстов, опирающихся на фольклорный/мифологический источник, рассмотрим повесть А.Беляева «Человек-амфибия» (1927) и ее экранизацию 1961 года (сценаристы А.Гольбурт, А.Ксенофонтов, А.Каплер, режиссеры Г.Казанский, В.Чеботарев).
Смоделируем в табличном/структурном виде (на основе исследований В.Я.Проппа, Н.М.Зоркой, М.И.Туровской и др.) мифологические, сказочные стереотипы медиатекста (сюжетные схемы, типичные ситуации, персонажи и т.д.) - повести «Человек-амфибия» и ее экранизации (см. таб. 2).
Табл.2. Выявление фольклорных/мифологических стереотипов медиатекстов
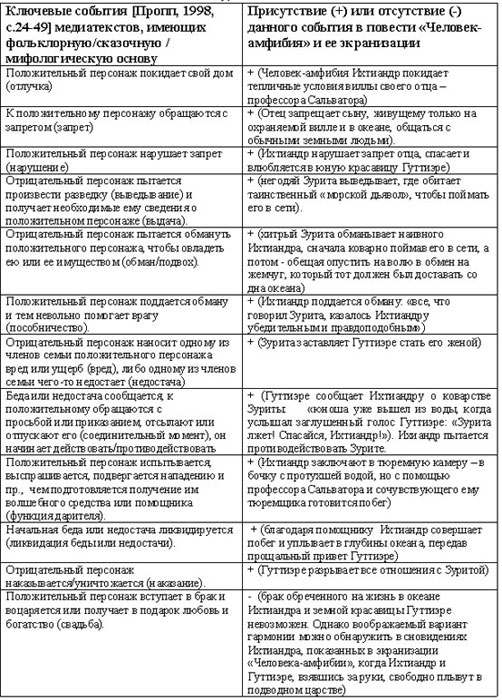
Опираясь на то, что данные медиатексты имеют отчетливую фольклорно-мифологическую основу, попробуем выявить в «Человеке-амфибии» семь кругов действий персонажей по классификации В.Я.Проппа [Пропп, 1998, с.60-61]:
1) круг действий антагониста/вредителя (вредительство, бой или иные формы борьбы с героем, преследование) - коварные действия алчного П.Зурита.
2) круг действий дарителя/снабдителя – действия профессора Сальватора;
3) круг действий помощника (пространственное перемещение героя, ликвидация беды или недостачи, спасение от преследования, разрешение трудных задач, трансфигурация героя) – действия второстепенных персонажей, помогающих профессору Сальватору и Ихтиандру;
4) круг действий искомого персонажа (обличение, узнавание) – действия Гуттиэре, которую пытается разыскать Ихтиандр;
5) круг действий отправителя (отсылка героя): в «Человеке-амфибии» Ихтиандр переносит себя в земной мир по собственной воле, но зато отправляется на поиски жемчуга по желанию А.Зурита;
6) круг действий героя (отправка в поиски, реакция на требования дарителя, свадьба): Ихтиандр отправляется на поиски сначала Гуттиэре, потом – на поиски жемчуга, но, увы, ему так и не суждено дойти до финальной свадьбы…
7) круг действий ложного героя (отправка в поиски, реакция на требования дарителя - всегда отрицательная - и, в качестве специфической функции - обманные притязания): круг действия Зурита, который обманом отправляет на поиски жемчуга Ихитиандра, обманом пытается завладеть Гуттиэре (выдает себя за ее спасителя) и т.д.
В итоге такого рода анализа можно прийти к выводу, что авторы используют практически весь арсенал массового успеха, включающего фольклорные, сказочные мотивы, опору на функции компенсации, рекреации, эстетический компонент, проявляющийся в профессионализме режиссуры, операторской работы, в филигранной отделке трюков, мелодичности музыки, мастерстве актеров, хорошо ощущающих жанр и т.п. факторы, усиливающие зрелищность и эмоциональную притягательность произведения.
Как повести, так и ее экранизации присуща композиционной четкости медиатекста. При этом авторы учитывают законы «эмоционального маятника» (последовательного чередования эпизодов, вызывающих у аудитории положительные и отрицательные эмоции).
Таким образом, можно четко определить, что авторы/агентство сумели использовать особенности «первичной» (со средой действия медиатекста) и «вторичной» (с персонажами медиатекста) идентификации.
Конечно, в какой-то степени сюжет «Человека-амфибии» несет отпечаток «холодной войны», конфронтации с «буржуазным миром чистогана», его «фальшивыми ценностями» (особенно это касается образа жестокого красавчика Зуриты). Однако в целом – это, конечно, экзотический фольклорно-сказочный сюжет, замешанный на яркой медодраматической истории.
Литература
Eco, U. (1960). Narrative Structure in Fleming. In: Buono, E., Eco, U. (Eds.). The Bond Affair. London: Macdonald, p.52.
Silverblatt, A. (2001). Media Literacy. Westport, Connecticut – London: Praeger, 449 p.
Горелов Д. Первый ряд-61: «Человек-амфибия».
2001. Зоркая Н.М. Уникальное и тиражированное. Средства массовой коммуникации и репродуцированное искусство. М.: Искусство, 1981. 167 с.
Зоркая Н.М. Фольклор. Лубок. Экран. М., 1994.
Нечай О.Ф. Кинообразование в контексте художественной литературы // Специалист. № 5. 1993. С.11-13.
Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М.: Искусство, 1976. С.51-63.
Пропп, В.Я. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 1998. 512 с.
Ревич В.Ю. Легенда о Беляеве. М.: Ин-т востоковедения РАН, 1998. С. 117-140.
Туровская М.И. Почему зритель ходит в кино // Жанры кино. М.: Искусство, 1979. 319 с.
Федоров А. В. Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов: Изд-во ЦВВР, 2001. 708 с.
Федоров А.В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов педагогического вуза. М., 2007. 616 c.
Федоров А.В. Медиаобразование: творческие задания для студентов и школьников//Инновации в образовании. 2006. N 4. С.175-228.
Харитонов Е. В. «Человек-амфибия» и те, кто после…//Харитонов Е.В., Щербак-Жуков А.В. На экране - Чудо: Отечественная кинофантастика и киносказка (1909-2002): Материалы к популярной энциклопедии. М.: НИИ киноискусства и др., 2003. 320 с.
Ямпольский М.В. Полемические заметки об эстетике массового фильма//Стенограмма заседания «круглого стола» киноведов и кинокритиков, 12-13 октября 1987. М.: Союз кинематографистов,1987. С.31-44.
Приложение 5.3. «Случай с ефрейтором Кочетковым» (1955) и его ремикс «Сады скорпиона» (1991)
Насколько я знаю, Олег Ковалов — был первым отечественным киноведом, отважившимся пойти по пути, проторенному блестящей плеядой бывших французских кинокритиков — Жаном-Люком Годаром, Франсуа Трюффо и Эриком Ромером. Получив известность в киномире своими фундаментальными статьями по проблемам киноискусства, опубликованными в 1980-х годах в журнале «Искусство кино», и написав, с моей точки зрения, интересную книгу, посвященную творчеству режиссера Виктора Трегубовича, О.Ковалов выступил сначала как актер в экспериментальной картине Валерия Огородникова
«Бумажные глаза Пришвина», а затем стал сценаристом и режиссером монтажного фильма «Сады скорпиона» (1991).
На мой взгляд, дебют оказался чрезвычайно удачным. О.Ковалову не только удалось использовать солидную базу синематечной «насмотренности» своего киноведческого прошлого (которая видна, к примеру, в явных и скрытых отсылках к мотивам итальянского и французского кино), но и обнаружить истинно режиссерские качества: тонкое понимание структуры звукозрительного ряда, оригинальное монтажное мышление, где философские обобщения, многозначная метафоричность органично сочетаются с эмоциональностью искренней ностальгии по эпохе 50-х годов XX века.
Фильм этот при желании можно было легко превратить в веселый «капустник»: насмотревшись старых кинодетективов и иных приключенческих лент времен «оттепели», смонтировать пародийную ленту. Рудименты подобной версии видны в прологе «Садов скорпиона», однако в итоге Олег Ковалов пришел к иному результату. Взяв за основу, давно позабытую «военно-патриотическую» ленту А.Разумного
«Случай с ефрейтором Кочетковым» (1955), он включил ее в контекст «эпохи несбывшихся надежд», переосмыслил и...
Впрочем, попробую по порядку. Картина А.Разумного была прямолинейно дидактична и состояла из ходовых клише литературно - театрально - кинематографических сюжетов своего времени: идеальный солдат, «отличник боевой и политической подготовки» влюблялся в симпатичную продавщицу-киоскершу, а она оказывалась... коварной шпионкой. Кочетков, само собой, заявлял о шпионском гнезде в соответствующие органы, честно выполняя тем самым свой гражданский долг...
Но все это, повторяю, было в ленте 1955 года. Сидя за монтажным столом, Олег Ковалов превратил банальную историю в полумистическую притчу о человеке, который в психиатрической больнице (здесь использовались кадры из медицинско-пропагандистского ролика с участием того же актера В.Грачева) пытается вспомнить и понять, что же с ним произошло. И в этих «флэшбеках» нет никакого дежурного разоблачительства шпионажа, а есть чистая любовь скромного и доброго паренька. Подобно Орфею из знаменитого фильма Жана Кокто, он однажды заглянул в зеркало, переступил порог обыденного мира, где все было просто и ясно, и очутился в Зазеркалье, где на него нахлынула эротическая волна неотвратимого, как судьба, взгляда волоокой красавицы... Но в эту любовь вмешались сверхбдительные силы тогдашних «органов», усиленно внушавших бедняге ефрейтору, что он попал в развесистые сети гнусного вражеского гнезда…
А вокруг сверкал праздничными огнями фестиваль молодежи и студентов. Искренними слезами умиления наполнялись глаза Ива Монтана и Симоны Синьоре, слушавших, как солист образцово-показательного хора профессионально-технических училищ старательно выводил по-французски популярную, в те годы песню «Когда поет далекий друг». Очаровательная и озорная Ширли Мак-Лейн, улыбаясь, жала руку Хрущеву, ставшему первым русским лидером, рискнувшим отправиться за океан...
Но вот под томительно-тревожную музыку возникают пейзажи бескрайних пустынь, и свирепые динозавры оскаливаются хищной пастью. Венгрия, 1956. Обугленные трупы, подвешенные вниз головой на улицах Будапешта... Автоматные очереди...
И снова праздничная Москва. Концерт Леонида Утесова и очередной парад... И финал «Ночей Кабирин» под волшебную музыку Нино Рота...
Вероятно, на этом материале получился бы фильм, еще раз обвиняющий тоталитарную систему. Но «Сады скорпиона», несмотря на ядовито-жалящую символику названия, видятся мне скорее лирической попыткой режиссера вспомнить время своего детства с его мифами, массовыми мистериями и иллюзиями...
Олег Ковалов смог совершить, казалось бы, невозможное — он вдохнул в плакатных персонажей ленты А.Разумного дыхание жизни. Главному герою и его возлюбленной (в измененном монтажно-рапидном варианте она чем-то напоминает роковую героиню из «Одержимости» Л.Висконти), быть может, неожиданно для себя начинаешь сопереживать. И это не случайно. Но сути, во многих из нас было нечто от наивного бедолаги ефрейтора. Это мы радостно шагали на первомайских демонстрациях и вместе с героями фильма Марлена Хуциева «Мне 20 лет» напевали балладу о «комиссарах в пыльных шлемах». Это мы, затаив дыхание, слушали по радио сообщения о небывалых космических полетах. Многие из нас, так же, как и исполнительный и всецело доверяющий начальству Кочетков, в юные годы были далеки от знания и понимания диссидентских идей. Напротив, были совершенно серьезно убеждены, что растем мы вовсе не в саду скорпионов, а в самой свободной и демократичной стране в мире, что знаменитая чеховская фраза о том, как он по капле выдавливал из себя раба, относится к давно ушедшим от нас временам... В какой-то степени дебют Олега Ковалова не только талантливый ремикс старой ленты времен «идеологчиеской конфронтации», но и талантливая лирическая исповедь поколения, детство которого пришлось на 1950-е годы.
Приложение 6. Фильмография (829 фильмов) по теме трансформации образа России на западном экране (1946-2009)*
* создана при финансовой поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ, проект № 09-03-00032а/р «Сравнительный анализ трансформации образа России на западном экране: от эпохи идеологической конфронтации (1946-1991) до современного этапа (1992-2008)». Научный руководитель проекта – А.В.Федоров.
ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Род. 4 ноября 1954
Окончил киноведческий факультет ВГИКа (1983), аспирантуру (1986) и докторантуру (1993) Института художественного образования Российской Академии образования (Москва). Доктор педагогических наук (1993): защитил диссертацию по кино/медиаобразованию в высшей школе. Профессор (1994), почетный работник высшего профессионального образования, президент Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России (с 2003), главный редактор журнала «Медиаобразование» (с 2005), член Союза кинематографистов России (с 1984, в 2009 избран в Правление СК), Национальной Академии кинематографических искусств и наук России (с 2002), IRFCAM (Международного форума исследователей в области медиа, Сидней, Австралия), Международной палаты «Дети, Молодежь и Медиа» (International Clearinghouse on Children, Youth and Media), ФИПРЕССИ (FIPRESCI) и CIFEJ (Международного центра фильмов для детей и молодежи, Монреаль, Канада).
Лауреат премии Союза кинематографистов по кинокритике и киноведению (1983), премии Гильдии киноведов и кинокритиков России (2001) и премии «За выдающийся вклад в развитие медиаобразования» (2007). Награжден Дипломом Министра культуры РФ «За большой вклад в сохранение духовно-культурного наследия России» (2008). Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая книга по коммуникативным наукам и образованию» (1 место в номинации «Медиаобразование», 2009). Лауреат всероссийского конкурса ведущих научных школ РФ (2003-2005) по программе Президента РФ, всероссийского конкурса по Аналитической программе «Развитие научного потенциала высшей школы» (2006-2008) Министерства образования и науки Российской Федерации, научно-исследовательских грантов по гуманитарным наукам (по темам медиаобразования, медиакультуры и истории киноискусства): Российского гуманитарного научного фонда (1999-2010), Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства (2001-2002), Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры» (2009), Министерства образования России (1997-2000), Программы «Университеты России» (2002-2003), Института «Открытое общество» - по различным направлениям исследований в области гуманитарных наук (1997-2002), Центрально-Европейского университета (1998, 2006), Фонда Мак-Артуров (1997, 2003-2004) и Института Кеннана (2003, 2008), немецкого фонда DAAD (2000, 2005), Швейцарского научного фонда (2000), Фонда поддержки научных исследований Франции Foundation - Maison des science de l’homme (2002, 2009), ECA Alumni (2004), ИНО-Центр–МИОН: Межрегиональные исследования в общественных науках» (2004-2005) и др.
Работал в прессе, в средних школах, был членом редколлегии журнала «Экран» (Москва), преподавал в Российском Новом университете (РОСНОУ). Свыше 20 лет заведовал кафедрой социокультурного развития личности ТГПИ. С 2005 – проректор по научной работе ТГПИ. Читает курсы по медиаобразованию, медиакультуре, киноискусству, руководит аспирантами по тематике медиаобразования, является главой ведущей научной школы РФ в области гуманитарных наук (по теме медиаобразования и медиакомпетентности).
Автор свыше двадцати книг по проблемам российского и зарубежного киноискусства, теории, истории и методике медиаобразования. Публикуется по вопросам киноискусства и медиаобразования с 1978 года (свыше 400 статей в российских и зарубежных журналах). Печатался в научных сборниках, в журналах: «Alma Mater: Вестник высшей школы», «Вестник Российского гуманитарного научного фонда», «Высшее образование в России», «Инновации в образовании», «Телекоммуникации и информатизация образования», «Дистанционное и виртуальное обучение», «Искусство и образование», «Мир образования – образование в мире», «Школьные технологии», «Вестник института Кеннана в России», «США-Канада: экономика, политика, культура», «Педагогика», «Человек», «Специалист», «Перемена», «Медиатека», «Школьная библиотека», «Практическая психология», «Педагогическая диагностика», «Молодежь и общество», «Медиаобразование», «Экран», «Искусство кино», «Киномеханик», «Мнения», «Видео-Асс Премьер», «Видео-Асс экспресс», «Видеомагазин», «Встреча», «Мониторинг», «Журналистика и медиарынок», «Total DVD», «Про кино» (Москва), «Новини киноекрана», «Кiно-Коло», «Медиакритика» (Украина), «Инновационные образовательные технологии» (Белоруссия»), «Кино» (Литва), Audience (США), Cineaste (США), Film Threat (США), Russian Education and Society (США), Canadian Journal of Communication (Канада), Cinemaction (Франция), Panoramiques (Франция), Educommunication (Бельгия), International Research Forum on Children and Media (Австралия), Media i Skolen, Tilt (Норвегия), MERZ: Medien + Merziehung (Германия), Media Education Journal (Шотландия), Educational Media International, International NGO Journal, Thinking Classroom, AAN Quaterly. и др.; в газетах «Арт-фонарь», «Культура», «Наше время», «Неделя», «Новая городская газета», «Учительская газета», «Экран и сцена», «СК-Новости», «Литературная газета», «Первое сентября», «Деловой экран» и др.
Неоднократно участвовал в работе зарубежных международных научных конференций по проблемам медиаобразования (Женева, 1996, 2000; Париж, ЮНЕСКО - 1997, 2007, 2009; Сан-Паулу, 1998; Вена, ЮНЕСКО-1999; Салоники-1999, 2001; Торонто-2000; Лондон-2002; Монреаль, 2003; Балтимор, 2003; Будапешт, 2006; Прага, 2007; Грац, 2007; Мадрид, ООН-2008 и др.). Занимался научно-исследовательской работой в области медиакультуры и медиаобразования в Центрально-Европейском (Будапешт, 1998, 2006) и Кассельском (Кассель, 2000) университетах, в Центрах медиаобразования Министерств образования Бельгии (Брюссель, 2001) и Франции (CLEMI, Париж, 2002, 2009), в Институте Кеннана (W.Wilson Center, Вашингтон, США, 2003), в Университете имени Гумбольдта (Берлин, 2005), в Сорбонне (Париж, 2009). Был членом жюри (включая жюри ФИПРЕССИ) на международных фестивалях в Москве, Сочи, Оберхаузене, Орьяке, Монреале, Локарно и др. Выступал с докладом на слушаниях Совета Европы по вопросам Интернет и медиаобразования (Страсбург, 2002) на конференции Совета Европы по медиаграмотности (Грац, 2007) и всемирном Форуме ООН «Альянс цивилизаций» (Мадрид, 2008).
Библиография (книги А.В.Федорова):
«За» и «против»: Кино и школа. М.,1987.
Трудно быть молодым: Кино и школа. М.,1989.
Видеоспор: кино - видео - молодежь. Ростов, 1990.
Подготовка студентов педвузов к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств (кино, телевидение, видео). Таганрог, 1994.
Киноискусство в структуре современного российского художественного воспитания и образования. Таганрог, 1999.
Медиаобразование: История, теория и методика. Ростов, 2001.
Медиаобразование в России: Краткая история развития. Таганрог, 2002 (совм. с И.В.Челышевой).
Медиаобразование сегодня: содержание и менеджмент/Ред. А.В.Федоров. М., 2002.
Медиаобразование в педагогических вузах. Таганрог, 2003.
Медиаобразование в зарубежных странах. Таганрог, 2003.
Violence on the Russian Screen and Youth Audience. Taganrog, 2003. Медиаграмотность будущих педагогов в свете модернизации образовательного процесса в России. Таганрог, 2004 (совм. с А.А.Новиковой, И.В.Челышевой и И.А.Каруна).
Права ребенка и проблема насилия на российском экране. Таганрог, 2004.
Медиаобразование и медиаграмотность. Таганрог, 2004.
Медиаобразование в ведущих странах Запада. Таганрог, 2005 (совм. с А.А.Новиковой).
Медиаобразование будущих педагогов. Таганрог, 2005.
Медиаобразование в США, Канаде и Великобритании. Таганрог, 2007 (совм. с А.А.Новиковой, В.Л.Колесниченко, И.А.Каруна).
Эстетическая концепция в российском медиаобразовании и творческое наследие Ю.Н.Усова. Таганрог, 2007. (совместно с И.В.Челышевой, А.А.Новиковой, Е.В.Мурюкиной и др.).
Медиаобразование: социологические опросы. Таганрог, 2007.
Media Education: Sociology Surveys. Taganrog, 2003.
interact.uoregon.edu/medialit/MLR/home/dwnload/sociology.doc
Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов педагогического вуза. М., 2007.
On Media Education. Moscow, 2008.
Медиаобразование: вчера и сегодня. М., 2009.
e-mail: 1954alex@mail.ru
Литература о А.В.Федорове:
[О книгах А.В.Федорова «Медиаобразование и медиаграмотность» и «Права ребенка и проблема насилия на российском экране»] // Кинопроцесс. 2005. № 1. С.173, 175].
Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна – к постмодерну. М., 2005. С.397.
Корконосенко С.Г. Преподаем журналистику: Профессиональное и массовое медиаобразование: Учебное пособие. СПб., 2004. С.79-81.
Короченский А.П. Важный вклад в медиапедагогику // Медиаобразование. 2005. № 1. С.121-124.
Чудинова В.П. и др. Дети и библиотеки в меняющейся среде. М., 2004. С.155-165.
Янчевская Е. Из жизни на экран и обратно // Независимая газета. 2.09.2004.
Короченский А.П. Медиаобразование и журналистика на юге России // Юг России в прошлом и настоящем: история, экономика, культура. Белгород, 2006. Т.1. С.316-323.
Поличко Г.А. Киноязык, объясненный студенту. М., 2006. С.7.
Russian Teachers and Media Education. In: Newsletter on Children, Youth and Media in the World. 2005. N 1.
Burke, B.R. (2008). Media Literacy in the Digital Age Implications for Scholars and Students.
In Communication Studies Today At the Crossroads of the Disciplines. Moscow, 2008.
Webs:
edu.of.ru/mediaeducation
edu.of.ru/medialibrary
www.mediagram.ru
www.aocmedialiteracy.org/
edu.of.ru/mediacompetence
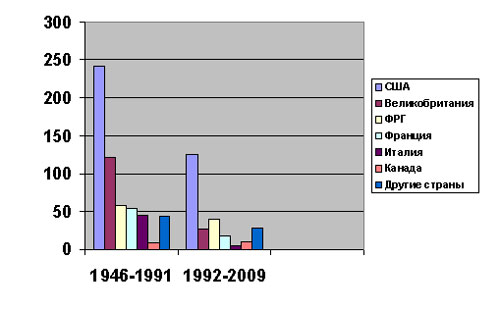
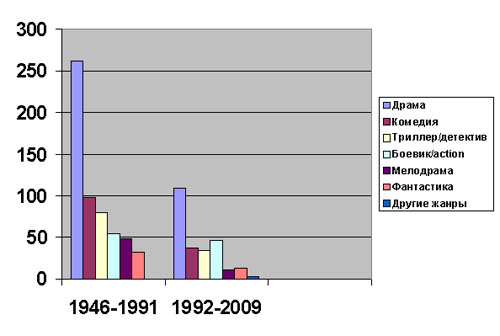
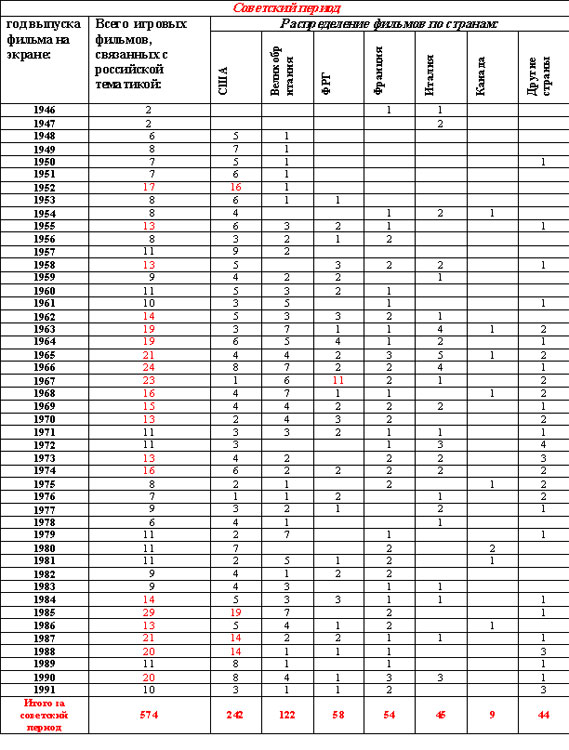
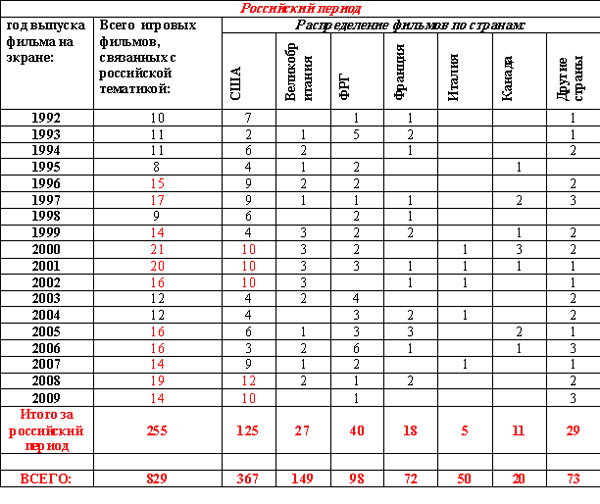
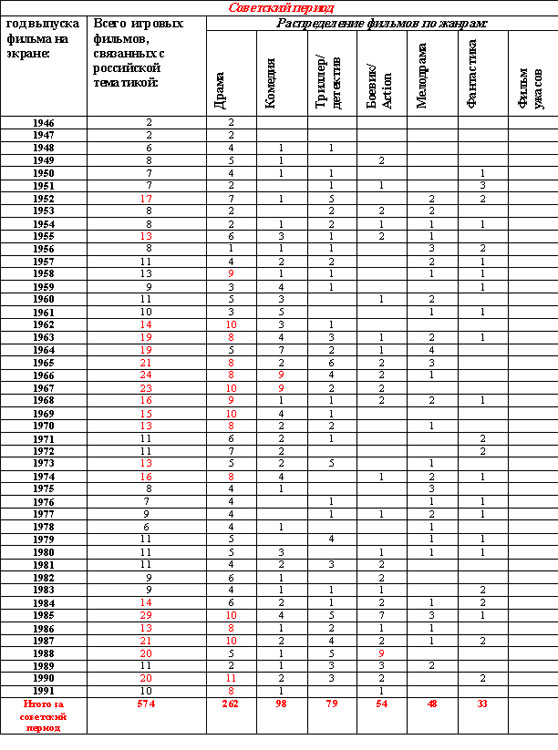
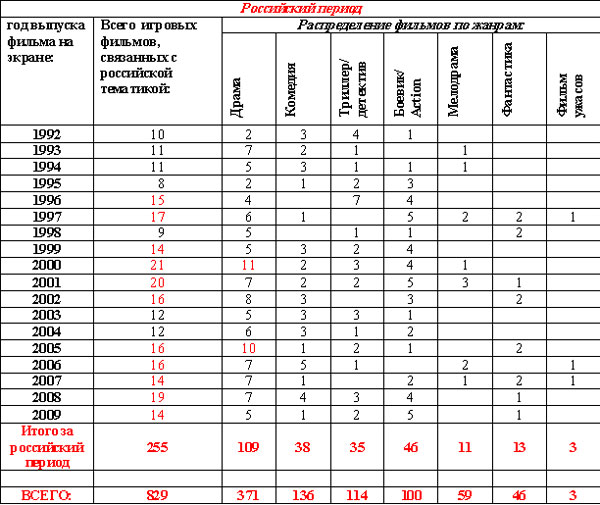

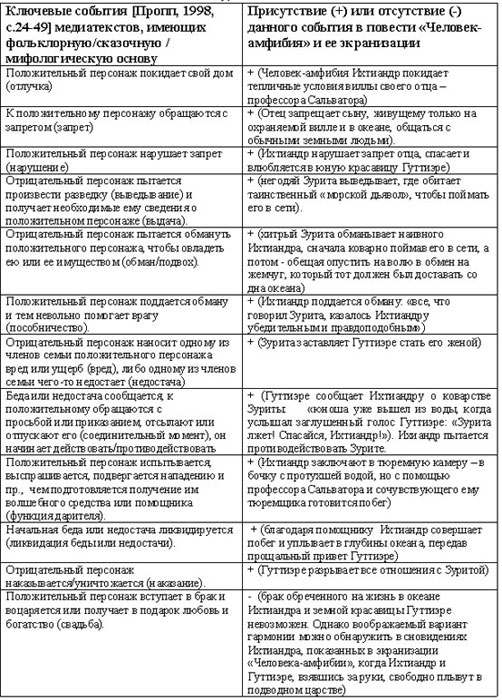












обсуждение >>